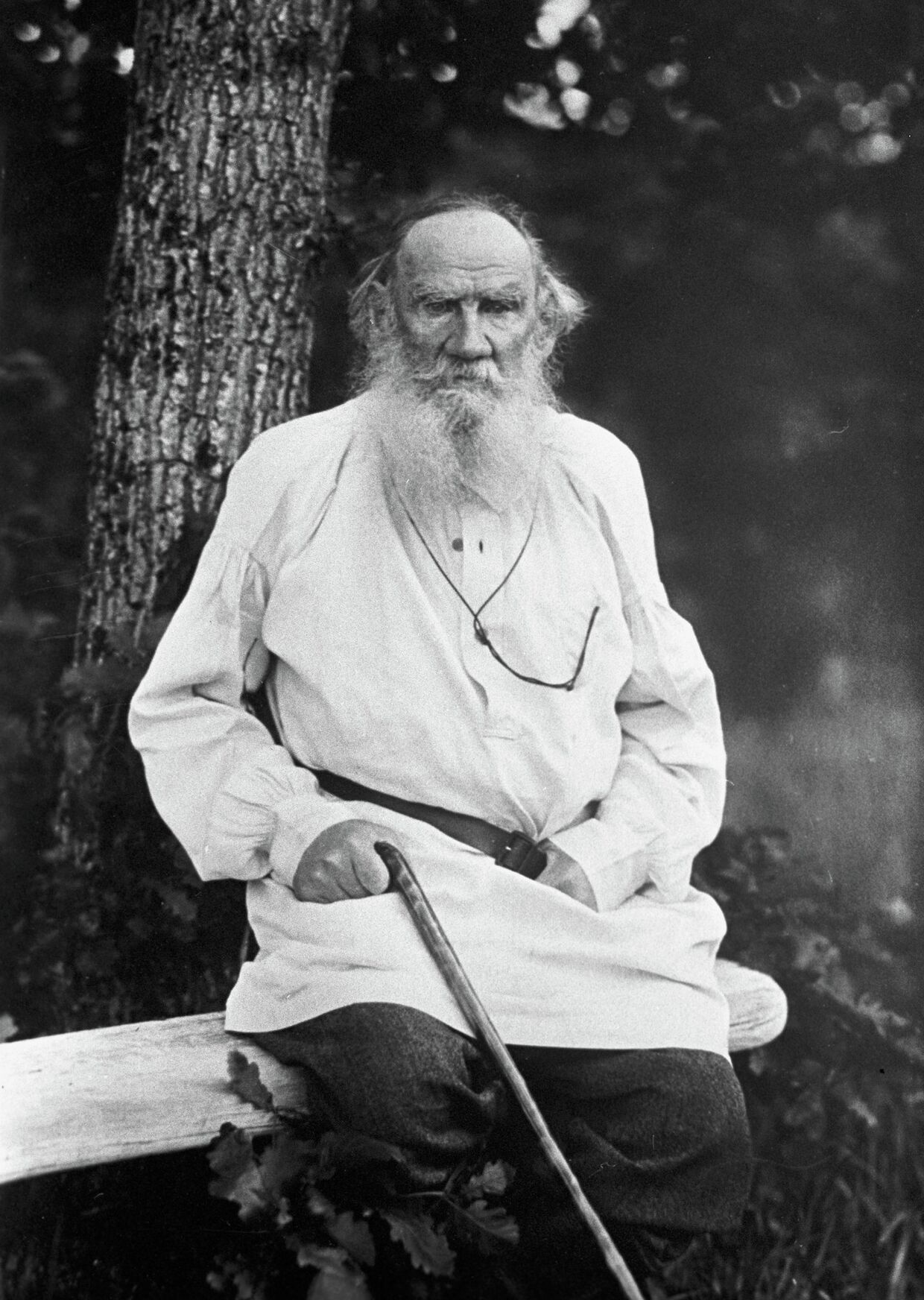В этот день (5 сентября) в 1828 году родился Лев Толстой. Роберт Ловетт 5 сентября 1928 года посвятил 100-летнему юбилею писателя эту статью, в которой рассмотрел экзистенциальные вопросы, преследовавшие Толстого всю жизнь.
Столетие Толстого обладает особым значением. Это не просто юбилей художника или даже пророка, а благодарное признание того влияния, которое Россия оказывает на мир в эстетической, общественной и духовной сферах. Толстой – точно так же, как Петр Великий в политической сфере - был воплощением и предтечей этого влияния. В 1879 Мэтью Арнольд (Matthew Arnold) оповестил англоязычную публику о Толстом, написав статью об «Анне Карениной». До этого у нас были лишь несколько посредственных переводов на английский Гоголя, Пушкина и Тургенева. Стоит отметить, что русская музыка, русский танец и русский театр в Англии были тоже неизвестны. Начало серьезному культурному влиянию положил перевод «Анны Карениной», за которым последовал перевод «Войны и мира». Толстой подготовил почву для своих соплеменников Тургенева и Достоевского и для последовавших за ним Чехова, Андреева и Горького. Интересно, что в то же самое время, когда официальная английская критика обрушивала всю свою мощь на Золя и французское натуралистическое направление и пыталась спасти английский театр от Ибсена, она приветствовала русских реалистов. Несомненно, это было связано с присутствовавшим у русских сильным религиозным элементом. Значимость Толстого как романиста в Англии почти не признавалась, пока его религиозное и социальное учение не прославило его как фигуру космополитического характера. Характерно, что с аналогичным феноменом – превращением художника в реформатора – английская публика уже была знакома на примере Джона Рескина (John Ruskin) и Уильяма Морриса (William Morris). Возможно, симпатии к Толстому были отчасти вызваны и политическим аспектом его взглядов. В те годы «медведь, что ходит как мы», воспринимался как извечный враг Британской Империи. И хотя толстовские пацифизм и непротивление казались англичанами химерическими, подобное учение они считали весьма полезным для враждебной России – и при этом начали яростно выступать против него, когда Россия стала союзницей Британии.
Величие Толстого как романиста, столь быстро признанное миром, опирается на мощь его чувств. Он был самым наивным из реалистов. Момент своего рождения как художника он зафиксировал в «Моей жизни». Он рассказывает о том, как ему было три года и его купали в корыте: «Я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками». Эта обостренная чувствительность снабжала его материалом, позволяя раскрывать физическую сторону мира и человеческой жизни. Никому из тех, кто читал Толстого, не нужно напоминать, насколько важны телесные аспекты – привычки, черты, жесты – для образов его героев. Именно эта яркая физическая реалистичность приковывает наше внимание при появлении княгини Болконской в начале «Войны и мира» или при восхитительном выходе Анны Карениной на страницы одноименного романа. Причем его мужчины и женщины не просто впечатляют своей физической реалистичностью – он угадывает их чувства, их впечатления от мира и от прочих смертных. Эти знания он выводит из их вида, интонаций, движений. В сущности, его психологический метод как художника – чистый бихевиоризм.
Однако по мере того, как постепенно росли его понимание человечества и умение изображать людей, росло и его стремление добраться до основ. Толстой – в отличие от Чехова – не был готов удовлетвориться сугубым реализмом. Реализм для него был лишь шагом к пониманию. Он с юности искал смысл жизни, и все его творчество – от «Казаков» до «Воскресения» - отражает опыт этого поиска. Фактически, это растянутая исповедь. Его телесность и его писательский дар, служившие основой его личности и его искусства, одновременно были для него опасностью и препятствием, постоянно искушая его следовать побуждениям тела, оставаться в царстве чувств и наслаждаться миром. Нигде мы не видим такого великолепного изображения физического благополучия и счастья, как в толстовских образах молодых мужчин: Оленина в «Казаках», Вронского в «Анне Карениной», Нехлюдова в «Воскресении». Любя свое тело и телесную жизнь, Толстой возненавидел его как врага духа, и стремление вырваться за его пределы, найти смысл и оправдание жизни в том, что мы называем духовным опытом, никогда не оставляло писателя в покое. Эта двойственность всю жизнь была характерна для Толстого. Она проявляется и в персонажах, с которыми он легко себя отождествлял – в «Оленине» из «Казаков», в Пьере из «Войны и мира», в Левине из «Анны Карениной». В своей первой работе (так в тексте, - прим. перев.) - «Казаках», которые отразили опыт его перехода от разгульного существования обычного молодого русского дворянина тех времен к жизни на Кавказе среди простых и необразованных людей, - Толстой прямо и наивно рассказывает эту историю. Оленин полностью чувствует зовы плоти, но временами – по самой логике своих желаний - осознает этический парадокс, предполагающий, что счастья нельзя достичь напрямую, но лишь через счастье других. Процесс прихода Оленина к этому выводу наглядно иллюстрирует то, что говорили о самом Толстом - что он «понимал всем своим телом». Ту тайну жизни, отблеск которой уловил Оленин, его создатель никогда не забывал. Он принял участие в Крымской войне и прославился в России как автор «Севастопольских рассказов», а затем удалился в свое имение «Ясная поляна», чтобы посвятить себя своим крестьянам - как в «Утре помещика». Там он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину», обеспечившие ему европейскую известность. Однако ни военная, ни литературная слава не смогли удовлетворить его духовный голод. Они давали не большее чувство полноты жизни, чем удовольствия. И вот, закончив «Анну Каренину», 52-летний писатель начал последний этап своего паломнического пути, завершившийся спустя 30 лет в Астапово.
Толстого как художника страстно влекло к его материалу – человечеству. Начинал он с любви к себе, своему телу и своим желаниям, затем это внимание и интерес распространились на окружавших Толстого мужчин и женщин. Но и этого не было достаточно. Так как цель жизни – это счастье других, Толстому нужно было шире и полнее узнать человечество, глубже проникнуть в его дух. В 1882 году он отправился в московские трущобы с гуманными с любой точки зрения целями. Об этом опыте он рассказал «Так что же нам делать?» По его словам, он сразу же был озадачен:
«Я понял здесь в первый раз, что все эти люди, кроме желания укрыться от холода и насытиться, должны еще жить как-нибудь те 24 часа каждые сутки, которые им приходится прожить так же, как и всяким другим. Я понял, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться. Я, как ни странно это сказать, в первый раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с таким же прошедшим, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами,— такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его».
Другими словами, Толстой осознал необходимость применить ко всему человечеству тот процесс творческого понимания, который он до этого применял только в своем искусстве - к немногим избранным объектам. Непосредственным результатом его социального анализа стал вывод о том, что величайшая трагедия человечества – это разделение на классы, на социальные страты, более далекие друг от друга, чем разные народы и разные расы. Толстой был не первым, кто это понял. Сорока годами раньше Дизраэли с прозорливостью гения дал своему роману «Сибилла» подзаголовок «О двух народах», объяснив это устами одного из персонажей так:
«Два народа, между которыми нет ни общения, ни сочувствия, которые незнакомы с обычаями, мыслями и чувствами друг друга, как будто живут в разных мирах или на разных планетах, которые по-разному воспитывают, которые вскармливают разной пищей, которыми по-разному управляют и у которых разные законы... богатые и бедные».
Толстой, как писатель и моралист, полностью прочувствовал трагичность этого разделения и выразил ее, откровенно осудив собственный класс:
«И я проще взглянул на нашу жизнь и увидал, что сближение с бедными не случайно трудно нам, но что умышленно мы устраиваем свою жизнь так, чтобы это сближение было трудно.
Мало того, со стороны посмотрев на нашу жизнь, на жизнь богатых, я увидал, что все то, что считается благом в этой жизни, состоит в том или, по крайней мере, неразрывно связано с тем, чтобы как можно дальше отделить себя от бедных. В самом деле, все стремления нашей богатой жизни, начиная с пищи, одежды, жилья, нашей чистоты и до нашего образования,— все имеет главною целью отличение себя от бедных.
И на это-то отличение, отделение себя непроходимыми стенами от бедных тратится, мало сказать, 0,9 нашего богатства».
На вопрос «что делать?» Толстой давал три ответа. Первый был личным, правилом жизни: «Только когда я покаялся, т.е. перестал смотреть на себя как на особенного человека, а стал смотреть, как на человека такого же, как все люди, только тогда путь мой стал ясен для меня». Второй тоже был личным, но содержит явный общественный принцип, адресованный имущему классу призыв к самоотречению – той самой «добровольной революции», на которую надеется г-н Гобсон.
«Я увидал, что причина страданий и разврата людей та, что одни люди находятся в рабстве у других, и потому я сделал тот простой вывод, что если я хочу помогать людям, то мне прежде всего не нужно делать тех несчастий, которым я хочу помогать, т.е. не участвовать в порабощении людей. Влекло же меня к порабощению людей то, что я с детства привык не работать, а пользоваться трудами других людей, и жил и живу в обществе, которое не только привыкло к этому порабощению других людей, но и оправдывает это порабощение всякими искусными и неискусными софизмами.
Я сделал следующий простой вывод: что для того, чтобы не производить разврата и страданий людей, я должен как можно меньше пользоваться работой других и как можно больше самому работать».
Третий ответ – эстетический. Искусство как фундаментальное средство исцеления двух народов. Толстой дал его в своей революционной работе «Что такое искусство?», вышедшей в 1895 году. К этому моменту Толстой с отвращением отвернулся от так называемых изящных искусств, предназначенных для того, чтобы доставлять удовольствие немногим счастливчикам, и особенно от художественной литературы, которой сам так много занимался. В романе своего времени он видит три основных мотива — гордости, «половой похоти» и «тоски жизни». Какое отношение это имеет к скорби человеческой, от которой вся тварь стенает и мучится? Такое искусство лишь расширяет и углубляет те раны человечества, которыми порождается.
«Они [художники] не могут не знать и того, что наше утонченное искусство могло возникнуть только на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство, — и того, что только при условии напряженного труда рабочих, специалисты — писатели, музыканты, танцоры, актеры — могут доходить до той утонченной степени совершенства, до которой они доходят, и могут производить свои утонченные произведения искусства, и что только при этих условиях может быть утонченная публика, ценящая эти произведения. Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого утонченного искусства».
Истинное искусство проистекает из стремления поделиться с другими неким опытом и опирается на человеческую солидарность.
«Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его.
Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их.
Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, красоты, бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах».
Вполне очевидно сходство взглядов Толстого с тем, что говорили в Англии Рескин и Моррис – теоретики, которые считали искусство не делом немногих, а делом народа в целом, по-настоящему существующим лишь благодаря его стремлениям и нуждам. Так же очевидно, что толстовская концепция функционального искусства предвосхищает более современные эстетические идеи. Джон Дьюи (John Dewey) видит в общении принцип эстетического удовольствия. «Общение, - утверждает он в «Опыте и природе» («Experience and Nature»), - непосредственно улучшает жизнь само по себе». «Разделение опыта – величайшее из человеческих благ», - отмечает он также. Он подчеркивает социальную роль искусства, провозглашая: «Любое искусство - процесс изменения мира, в котором мы живем». Точно так же признает искусство средством упорядочивать мир и философ совсем других взглядов, чем Дьюи. Д-р Сантаяна в «Скептицизме и животной вере» («Skepticism and Animal Faith») пишет о «естественном мире, в котором, можно жить лучше, благодаря занятиям искусством». «Важно, чтобы наука была объединена с искусством и чтобы искусства заменили власть случая… властью человека над обстоятельствами», - считает он. Это очень близко к идее Дьюи о том, что «искусство – единственная альтернатива удаче». Наконец Хэвлок Эллис (Havelock Ellis) в «Танце жизни» («The Dance of Life») пытается воспринимать любую человеческую деятельность, науку и поведение в категориях искусства, и при этом типичным искусством считает танец, так как тот не требует другого материала кроме тела, зато требует сотрудничества участников. Более того, Толстой бы, бесспорно, согласился с мыслями Эллиса о том, что искусство делает для человечества: оно обеспечивает нам контакт с реальностью, пронзая пелену условностей, порождаемую нашей склонностью упрощать и классифицировать для удобства мышления, и оно противостоит инстинкту обладания, так как дает нам «возможность наслаждаться вещами, не принуждая обладать ими».
Как я постарался показать выше, Толстой был не одинокой и обособленной фигурой—гласом вопиющего в пустыне, - а человеком своего времени, чувствовавшим острее, чем прочие, и соответственно сильнее страдавшим от дисгармонии частной жизни и от раскола общества. Как и прочие мыслители, критиковавшие 19 век, он разуверился в том, что прогресс науки и промышленности способен улучшить жизнь людей. Как и они, он искал в жизни внутренние ценности—те вещи, которые непосредственно воспринимаются нами, как ценные сами по себе, а не только в связи с внешними целями. Учение Толстого было при этом в первую очередь эстетическим, а не научным и не социальным. Он считал, что искусство должно оказывать религиозное влияние.
«Искусство должно сделать то, чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные теперь только лучшим людям общества, стали привычными чувствами, инстинктом всех людей. Вызывая в людях, при воображаемых условиях, чувства братства и любви, религиозное искусство приучит людей в действительности, при тех же условиях, испытывать те же чувства, проложит в душах людей те рельсы, по которым естественно пойдут поступки жизни людей, воспитанных искусством. Соединяя же всех самых различных людей в одном чувстве и уничтожая разделение, всенародное искусство воспитает людей к единению, покажет им не рассуждением, но самою жизнью радость всеобщего единения вне преград, поставленных жизнью».
Сейчас не время обсуждать логичность толстовского кредо или его практическую применимость – особенно если учесть, что это обсуждение, в любом случае, может быть только теоретическим. Тем более, сейчас не время подчеркивать метанья Толстого, его непоследовательность и слабые места. Он все это осознавал лучше, чем кто бы то ни было, и заранее предвосхищал в своих признаниях все, что могли высказать его противники. Нам имеет смысл просто с благодарностью назвать его тем, чем он был —«нашей совестью», по выражению Ромена Роллана (Romain Rolland), - и вспомнить слова Горького: «Он же тем велик и свят, что — человек он… Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей».