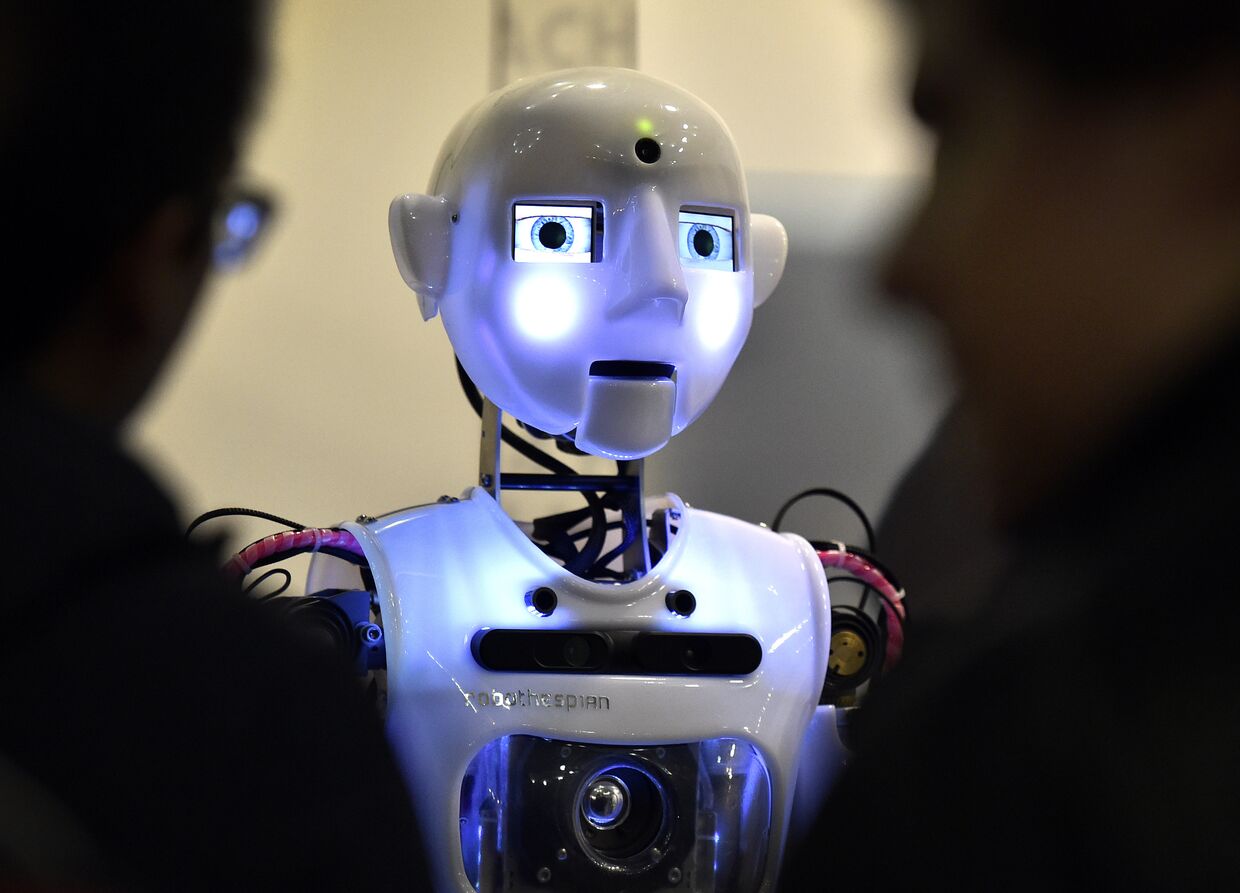Сергей Медведев: Прав ли был Маркс, когда говорил, что базис, экономические основы общества, производительные силы и производственные отношения рано или поздно меняют надстройку? Глядя на современное российское общество, начинаешь в этом сомневаться. Общество в большой своей части уже находится в новом технологическом укладе, в сетевом обществе, стоит на пороге четвертой промышленной революции, а политические отношения — в совершенно архаичном состоянии и, кажется, еще больше откатываются назад. Так ли это? Эту тему мы обсудим с политологом Екатериной Шульман. Это один из немногих экспертов, которого я могу с гордостью назвать политологом, потому что в целом это название себя дискредитировало.
Недавно в лектории «Прямая речь» у вас была очень интересная лекция под названием «Будущее семьи, частной собственности и государства — переиначивая Энгельса» — вот откуда взялась эта марксистская тема в начале.
Екатерина Шульман: Энгельса я люблю больше, чем Маркса: он, по крайней мере, жил за свои деньги. Сама эта статья — «Происхождение семьи, частной собственности и государства» — всегда казалась мне очень внятным изложением того, что происходило с человечеством на его заре. Что касается базиса и надстройки, конечно, вульгаризированный марксизм, оставшийся в мозгах советских людей, которым все это преподавали в средней и высшей школе, — это одно из самых больших зол наших дней.
Мы сейчас не будем углубляться в претензии Марксу как таковому, но именно к этой его версии (советской, оставшейся в головах у людей) много претензий, потому что оттуда восприняты какие-то совсем линейные вещи в духе вульгарного материализма. Тезис о базисе и надстройке понимается в том смысле, что деньги определяют все, что главное экономика, а все остальное на ней надстраивается. Причем экономика понимается не как система отношений, каковой она является, а примитивно, сугубо как деньги. Понятие о капитализме тоже заимствовано из каких-то обрывочных цитат из классиков марксизма-ленинизма, типа «нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли». В головах бывших комсомольцев все эти идеи, к сожалению, цветут пышным цветом и дают совершенно не тот плод, какого хотелось бы.
— Меня интересует, как в связи с экономическими изменениями будет меняться структура государства, структура государственного суверенитета, которая с нами лет 350-400, если считать с Вестфальского мира?
— Мы воспринимаем как данность и единственную возможную реальность то, что сформировалось в конкретных исторических условиях, а другие конкретные исторические условия могут сформировать совершенно другую реальность. Мы с вами принимаем за единицу мироустройства централизованное национальное государство.
Я хочу напомнить, что так было не всегда. Нынешние национальные государства, наследники абсолютистских монархий Европы, которые в свое время выиграли историческое соревнование, победили в исторической конкуренции и показали более высокие результаты, чем разнообразные альтернативные модели, — вот они, собственно говоря, и унаследовали землю.
Наши понятия о том, что большое — это эффективное, что централизация — это скорее хорошо, чем плохо, что долгосрочное планирование — это тоже здорово и правильно, государство образуется нациями, нация есть политическая единица, — я не говорю, что все это ошибочные иллюзии или суеверия, это просто определенный исторический этап.
Возможно, мы постепенно переходим в другой исторический этап. Это может происходить силами двух процессов: во-первых, глобализации, которая эту единицу (национальное государство) делает во многом устаревшей по ряду параметров. Более высокая мобильность — как людская, так и мобильность информации и товаров, собственно говоря, может сделать излишним, слишком дорогим и неэффективным по сравнению с возможностями новой мобильности все то, что является скорлупкой национального государства: границы, налоговую систему, финансовую систему, национальные валюты, национальные системы законодательства.
Часть этого процесса — и то, что у нас называется информационным обществом, и вот этой загадочной постресурсной экономикой, которую нам должна принести четвертая промышленная революция. Это все пока еще довольно туманные вещи. Они кажутся такими туманными, потому что люди, занимающиеся науками об обществе, не очень хорошо понимают, какова эта новая информационная и экономическая реальность, а люди, занимающиеся информационными технологиями, во-первых, не умеют понятным образом объяснять, что это такое, а во-вторых, не мыслят категориями, которыми мыслят общественные науки. Они могут рассказать про свой биткоин, про свой блокчейн, но они не понимают, что это значит для социума, для политической системы, для баланса власти. А тем, кто понимает в этом, трудно вникнуть в то, что такое интернет вещей, чем он отличается от интернета овощей, почему именно это должно радикально менять мир. Поэтому мы, как положено в разных отраслях знания, ощупываем слона каждый со своего конца.
Тем не менее, из того, что сейчас видно, вырисовывается некая картина. Хочу заранее предупредить, что вырисовывающаяся картина кажется максимально противоположной тому актуальному новостному фону, в котором мы изо дня в день живем. Этому тоже есть вполне марксистское объяснение. Как говорил Маркс, если общество задается вопросом, значит, ответ на него уже найден. Если какая-то политическая форма особенно активно себя проявляет, то очень может быть, что она проявляет себя потому, что является уходящей.
Вот эти проблемы прошлого века, вчерашние проблемы вспыхивают особо ярким пламенем. Может показаться, что сейчас самый актуальный вопрос в мировой политике — это вопрос суверенитета. Это новая религия всех новых правых в Европе, это во многом и религия Трампа.
— Может быть, это реакция на глобализацию, на блокчейн, на четвертую промышленную революцию, на безработицу «белых воротничков»? Идет новая волна суверенитетов, во главе которой на белом коне — товарищ Путин, говорящий, что надо давать клятву.
— Или товарищ Трамп. Это еще надо посмотреть, у кого конь белее. Да, я считаю, что это естественная реакция. Более того, я всем предлагаю порадоваться тому, что в нашу эпоху на таком крутом вираже исторических перемен эта реакция имеет такую форму, то есть кто-то где-то выиграл на выборах — не один, а другой кандидат.
Мы называем это шоком, потрясением, революцией, опасностью для либеральной демократии, а на самом деле это все детские сказки по сравнению с тем, что происходило в предыдущих промышленных революциях, на предыдущих исторических этапах. Такого рода изменения обычно сопровождаются массовым кровопролитием, мировыми войнами, очень серьезными насильственными изменениями внутри социумов, стран. В прошлые разы все это прошло гораздо менее мирно. Слава богу, что сейчас это все на уровне какой-то политической болтовни. Но если это действительно реакция, если мы, общественные науки, правы в своих наблюдениях, то это уходящая волна, которой надо дать себя проявить, потому что люди имеют право быть недовольными темпом перемен: их образ жизни и уклад действительно находятся под угрозой, и они имеют право на то, чтобы проявлять свой протест таким образом, выбирая тех лидеров и те партии, которые, как им кажется, помогут оттянуть часовую стрелку назад.
При этом мы помним про себя, что это в принципе невозможно, то есть, видимо, нельзя как-то радикально изменить ход истории. Даже я сомневаюсь, что возможно его замедлить. Но можно как-то смягчить резкость этого поворота. Может быть, оно и к лучшему, может быть, потом, оглядываясь назад, мы скажем, что роль новых консерваторов и каких-нибудь сторонников Брекзита в Великобритании была скорее позитивной, чем негативной. То есть мы можем их рассматривать не как людей, которые цепляются за колеса поезда прогресса и не дают ему ехать: может быть, они, слегка затормозив время, действительно сделали этот вираж не таким головокружительным и не таким болезненным для вестибулярного аппарата народов.
— Сейчас левый и правый популизм — как лихорадка при прививке.
— Можно сказать и так. Честно говоря, я пока не вижу от них большого и радикального вреда, я не особенно сочувствую этому тотальному ужасанию, поскольку не вижу, чему именно ужасаться. Если мы считаем, что суверенитет национальных государств будет растворяться в крепкой кислоте глобализации (что, собственно говоря, уже и происходит, и реакция объясняется именно тем, что это происходит), то возможно, что организационные формы общемирового порядка будут, как сейчас часто говорят, разделяться на два уровня. На верхнем уровне будет система межгосударственных союзов типа Евросоюза, новая империя Габсбургов, как говорят конспирологи, типа тех тихоокеанских партнерств, которые заводил Обама, из которых сейчас выходит его преемник.
Тем не менее, все равно китайский ШОС, наш Евразийский союз, такого рода межгосударственные объединения — это же не Антанта, не договор о сердечной дружбе, это, прежде всего, экономические союзы. Их смысл — упрощение торгового оборота, усиление той самой мобильности, которая и растворяет скорлупки национальных государств, выедает из них кальций, делавший их крепкими.
Второй этаж — это уровень городов и городских агломераций. Это очень популярная сейчас тема в общественных науках. Я не буду утверждать, что я все про это понимаю, но смысл следующий: процессы урбанизации продолжаются, то есть трудовые, финансовые, экономические ресурсы действительно концентрируются в городах и на территориях, которые обслуживают город.
— Историк во мне говорит, что когда-то мы это уже проходили: в период позднего средневековья, когда были большие независимые города, и в то же время существовала священная Римская империя, то есть это догосударственный период, большие города и большие транснациональные торговые союзы.
— Христианский мир или большая Золотая Орда — это тоже не было единое государство в нашем понимании. Была знаменитая фраза, что в империи Чингисхана девушка с золотым блюдом на голове могла пройти от Пекина чуть ли не до Бухареста, и никто ее не трогал. Смысл тоже был в том, чтобы обеспечить безопасное пространство для перемещения людей и товаров. Все, в конечном счете, сводится к этому. Вообще, очень забавно, какое количество черт уже наступившего и наступающего нового времени, нашего с вами будущего повторяют на новом техническом уровне практики высокого средневековья. Это поразительно! Хочешь узнать, что будет, — посмотри на то, что было до XVII века.
— Сорокин об этом и пишет в «Теллурии».
— Это, конечно, богатый материал для антиутопий, потому что для нас средневековье — это фильм Германа «Трудно быть Богом». Давайте не зацикливаться на деталях, у нас уже есть антибиотики, водопровод и канализация, поэтому совсем туда мы не скатимся.
Мы воспринимаем период абсолютизма как период наступления прогресса. А по ряду параметров относительно той же самой свободы перемещения, относительно возможности для человека убежать от своего суверена и жить своей жизнью, может быть, это как раз был шаг назад, в закрепощение. Между прочим, этот период принес всему миру крепостное право на новом уровне, когда вилланов и сервов уже давным-давно позабыли, люди были свободными, и вдруг опять пришло большое государство и рекрутировало всех в большую армию, на большие производства и на принудительный крестьянский труд. Так что не будем абсолютизировать просвещенный абсолютизм: было в нем свое хорошее, было в нем и свое плохое.
Действительно, практики высокого средневековья (начиная от цеховых объединений, которые суть саморегулируемые организации), культ ручного труда, новый культ семьи, новая роль связей, атомизация ХХ века сменяются связанностью всех со всеми, только вместо родной деревни и посада, который был у средневекового человека, у нас есть родная социальная сеть, родной «Фейсбук» или родные «Одноклассники». Здесь какая-то другая роль религии, может быть, объясняющаяся тем, что у людей появилось больше свободного времени, и они стали задумываться о своей духовной жизни.
Что еще принесла позапрошлая промышленная революция в централизованные государства — люди стали гораздо больше работать. Позднесредневековый человек, если он не был крестьянином, то не ходил на работу к девяти утра, его жизнь была гораздо более вольной, с нашей точки зрения.
— Маркс тоже пишет об этом: они работали столько, сколько им было необходимо для натурального воспроизводства и небольшого натурального обмена.
— Вот вам жизнь гражданина с гарантированным гражданским доходом.
— Встает еще один вопрос: что будет с демократией в эпоху гарантированного минимального дохода? Люди перестают быть налогоплательщиками: ты не работаешь, а государство дает тебе денежку.
— А налоги будут платить роботизированные производства, создающие, в свою очередь, другие роботизированные производства.
— Налог, видимо, будет только с потребления.
— Сейчас пока надеются на то, что налоги будут платить владельцы этих автоматизированных производств, которые уже будут продуцировать сами себя, они будут основными объектами налогообложения. Это вопрос уже напрямую к политической науке: каким будет политическое поведение, какой будет репрезентативная демократия, не возникнет ли внезапно новый социализм, состоящий из этого государства, кормящего бесконечные орды вечных пенсионеров.
Мы, Российская Федерация, может быть, немножко показали миру, на что это похоже, потому что в нефтяные годы мы были социумом псевдозанятости. Во многом мы остаемся им и сейчас, потому что за эти годы государство раскормило огромный класс бюджетников — не учителей и врачей, а госслужащих, чиновников, сотрудников контролирующих и проверяющих организаций, бесконечные толпы силовиков. Мы превосходим все страны мира с очень большим перехлестом: в два раза больше, чем в Германии, на треть больше, чем в Китае (в процентном соотношении). Соответственно, у нас огромная армия этих людей, которые ничего не производят, чья деятельность носит условный характер, они типа «берегут нашу безопасность».
Опять же, к вопросу о высоком средневековье… Помните, у Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» есть рассуждение о том, что солдат воюет, купец торгует, крестьянин пашет, а монах что делает? А он молится за наши грехи. Вот правоохранитель охраняет, стережет нашу безопасность, молится за наши грехи нарушения безопасности, а мы все за это его кормим. Такая не очень веселая социально-политическая картина с соответствующим политическим поведением, очень хорошо нам знакомым, поскольку понятно, как эти люди голосуют: либо они не голосуют вообще и не протестуют против того, чтобы их голоса присваивались, либо они голосуют за ту власть, которая является их содержателем.
— Меня очень интересует этот зазор: каким образом нынешняя российская неоархаизация, неудавшийся транзит, видимо, частично не удавшаяся или целиком не удавшаяся модернизация сочетаются с глобальным модернизационным переходом к четвертой промышленной революции, к обществу сплошной безработицы, обществу роботов, гарантированного минимального дохода, нулевого кредита, блокчейна, биткоина, всех этих инноваций, о которых мы здесь говорим? Каким образом нынешний путинский режим сочетается со всем этим? Или это как-то умещается только в голове Германа Оскаровича Грефа?
— Герман Оскарович Греф — один из немногих высокопоставленных людей, который говорит о будущем публично, и за это ему надо сказать спасибо. То, что он говорит, не всегда можно понять, но, по крайней мере, нельзя не приветствовать саму устремленность мысли вперед. Ведь то, что называется футурофобией, боязнью будущего — это очень распространенная у нас болезнь, и чем выше по иерархической пирамиде, тем она распространенней.
У нас вообще ценности безопасности и сохранения радикально превалируют над ценностями прогресса и развития. В этом едины и власти, и граждане: все боятся будущего, все рассматривают его в терминах угроз и вызовов. Посмотрите по контекстному слову «будущее», какие слова вы увидите рядом: «угрозы» и «вызовы», а не «возможности», «шансы» или «улучшение», которые принесет нам завтрашний день. У нас может быть только возвращение во вчера и позавчера, а в завтрашнем дне одни сплошные угрозы выскакивают на нас из-под кровати. Соответственно, то, что вы называете архаизацией, есть попытка следовать этим ценностям сбережения, безопасности и сохранения.
— Согласно всемирному обзору ценностей, который делают Инглхарт и Норрис, Россия всегда находится в спектре, где ценности выживания гораздо выше ценностей самовыражения.
— Совершенно верно, это одна из наших базовых бед, потому что с этим сочетается крайне низкий уровень доверия. С уровнем доверия в последние годы становится чуть-чуть получше силой социальных сетей и тех связей, которые они дают. Это сразу чрезвычайно увеличивает оптимистические настроения, так сильно, что даже экономическая деградация не может перебить тот эффект эйфории, которую чувствует человек, который вдруг обнаруживает себя не в одиночестве, а связанным с другими людьми. Все-таки это базовая человеческая потребность. Депривация в этом смысле приводит ко всему на свете, от суицида до наркомании. Любое улучшение в этой сфере сразу дает вам плюс сто в карму, как нынче говорят, плюс сто к вашему социальному самочувствию и даже к вашему политическому оптимизму. Поэтому все так подсаживаются на совместную деятельность.
— Как же Россия со своей футурофобией вписывается в этот глобальный расклад?
— Будь ты футурофоб или футурофил, все равно время для тебя течет точно так же, как для всех остальных. Невозможно закопаться в ямку и сказать: ой, знаете, для меня послезавтра не наступит, пусть всегда будет вчера, всегда пять часов и время пить чай, как в «Алисе в Стране чудес». Но даже там, как вы помните, они пересаживались вокруг стола, чтобы каждый раз иметь чистую посуду. На вопрос Алисы: «Что же вы будете делать, когда сделаете полный круг?» — Мартовский заяц нервозно говорит: «Давайте поговорим на другие темы».
Люди, которые хотят остановить время, очень нервозно относятся к вопросу: что же вы будете делать, когда перемажете всю посуду и съедите все ваши ресурсы? Наш Минфин, совершенно как Мартовский заяц, очень не любит, когда ему задают этот вопрос: «А когда вы проедите фонд, что будет дальше?» — «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». А там, может быть, случится что-то невероятное, и проблема рассосется сама собой.
Будущее наступает для всех. Более того, поскольку то будущее, о котором мы с вами говорим, имеет своим базисом глобализацию, то я думаю, что новое явление этого нового века, которое человечество еще не очень видело, состоит в том, что возможно отставание, но невозможна изоляция. Все предыдущие века отстающие страны, неэффективные куски земли были изолированы, то есть я сижу у себя со своим частоколом, я ни к кому не хожу, и ко мне никто не ходит. Я сам себе выращиваю свою брюкву, ем ее, хорошо торгую с соседями пенькой и соболиными шкурками, но не глобализируюсь. В чем было преимущество этого образа жизни? В том, что ты, может быть, живешь хуже, чем сосед, но ты об этом не знаешь. Ты считаешь, что там живут люди с песьими головами, какие-то нехристи, и у нас тут все правильно и хорошо, по староотеческим заветам, а у них там неизвестно что.
Сейчас изоляция невозможна, мир прозрачен, все видят всех, не только путем физического перемещения, но и путем обмена информацией. Причем мы очень близко видим, как живут другие люди. При этом отставание вполне возможно. Одни территории богаче, другие беднее, одни дальше убежали по пути технического прогресса, другие совсем не убежали, но при этом все видят всех. Конечно, это взрывает мозг.
Я думаю, это одна из пружин, один из двигательных механизмов, в том числе, и мировой террористической активности. Когда молодые люди отсталых территорий (выразимся обобщенно) видят, что другие молодые люди живут совершенно иначе, и при этом они верят в неправильного бога, неправильно себя ведут, не так одеваются, а живут лучше, — это очень многим абсолютно ломает голову. Единственный вариант, который представляется — это «давайте взорвем их к чертовой матери, взорвем этот неправильный мир, потому что он сидит у меня на носу, я не могу никуда от него спрятаться. Я не то что сижу себе тихо в медресе и молюсь — он вокруг меня, этот мир неправильности, поэтому давайте его уничтожим».
Это, с некоторыми поправками, и картинка взаимоотношений России и обобщенного западного мира: мы тоже все это видим, но это неправильное, нехорошее, поэтому давайте огородимся… Огородиться невозможно. Давайте внушать себе, что у нас лучше, но это тоже трудно. Это очень дискомфортная новая ситуация.
— Но при этом путинский режим, как мне кажется, очень неплохо встроился в информационный мир. Уровень цифровой культуры, цифровизации отношений в Москве, я считаю, один из самых высоких в мире. Можно прекрасно обойтись без денег, без кредитки, скоро будем везде платить мобильными. Путинский режим научился очень ловко манипулировать интернетом. У многих из нас были оптимистические иллюзии (у меня лично были лет 10-15 назад), что наконец-то интернет победит телевизор, принесет нам свободу, но он ничего не принес.
— В чем выражаются эти успехи режима?
— По крайней мере, он создал иллюзию глобальных российских хакеров, которых сейчас ищут под каждой кроватью.
— Мы извлекаем из этого какую-нибудь пользу? Я очень часто слышу, в том числе и участвуя во всяких международных конференциях, про выдающиеся успехи российской внешней политики, российской внешнеполитической пропаганды. А когда пытаешься пощупать, в чем успех, говорят: «А вот, знаете, на обложке журнала была картинка с Путиным»…
— Внутри, в соцсетях, в конце концов.
— О нас много говорят, причем говорят какие-то гадости. Что нам за профит от всего этого? Информационное общество таково, что тут очень многое состоит из разговоров. А когда пытаешься пощупать, эта пена уходит между пальцами. Я не знаю, в чем для нас выгода этой репутации русских хакеров. Нам что, дают за это дешевые кредиты, больше покупают наши товары?
— С этим соглашусь. По крайней мере, с точки зрения режима, видимо, это все микроуспехи. Но даже с точки зрения потребителя информации, люди, верящие в распятого мальчика в Славянске, — как они верили из телевизора, так они верят и в интернете. В испанского диспетчера, который не знает, что сбили «Боинг»…
— Влияет ли это на их политическое поведение? Мы видим, как люди, которые посмотрели в YouTube фильм про Димона, взяли, да и вышли на митинг, а люди, которые смотрят Дмитрия Киселева, никуда не ходят, если только им не поручают прийти из ЖЭКа или по месту работы.
— В этом отношении вы остаетесь технооптимистом?
— Я вообще стараюсь мыслить в категориях прогресса.
— Вы вообще оптимист — это всем известно.
— Я не знаю, в чем мой оптимизм. Но я считаю, что человечество постепенно движется по пути меньшего насилия и большего благополучия — не видеть этого нельзя. Мы живем в годину мира и процветания, если по большому счету. Все-таки никогда не было так мало войн, никогда в этих войнах не было так мало жертв. Это звучит ужасно безнравственно, ведь, смотрите, там воюют и там воюют, в Сирии кого-то поубивали, но человечество всегда воевало гораздо больше, нежели сейчас. И технический прогресс принес нам максимальное приближение к избавлению от проблемы голода, которого когда-либо достигало человечество. В этом смысле у нас есть поводы для оптимизма. Информационное общество увеличивает уровень счастья, потому что связывает людей между собой, а люди хотят быть связанными между собой.
Это очень общие вещи. Если вам конкретно вместо счастья в интернете достаются троллинг и травля, то у вас не будет повышаться уровень счастья, вас это может довести до самоубийства. Лично вы можете потерять работу от технического прогресса, а вовсе не приобрести ее. Тем не менее в целом нельзя не приветствовать движение человечества по пути прогресса.
— Процитирую то, что уже сказала Екатерина: возможно отставание одной страны, но невозможна ее изоляция. Я думаю, сейчас мы в этом убеждаемся более, чем когда-либо.