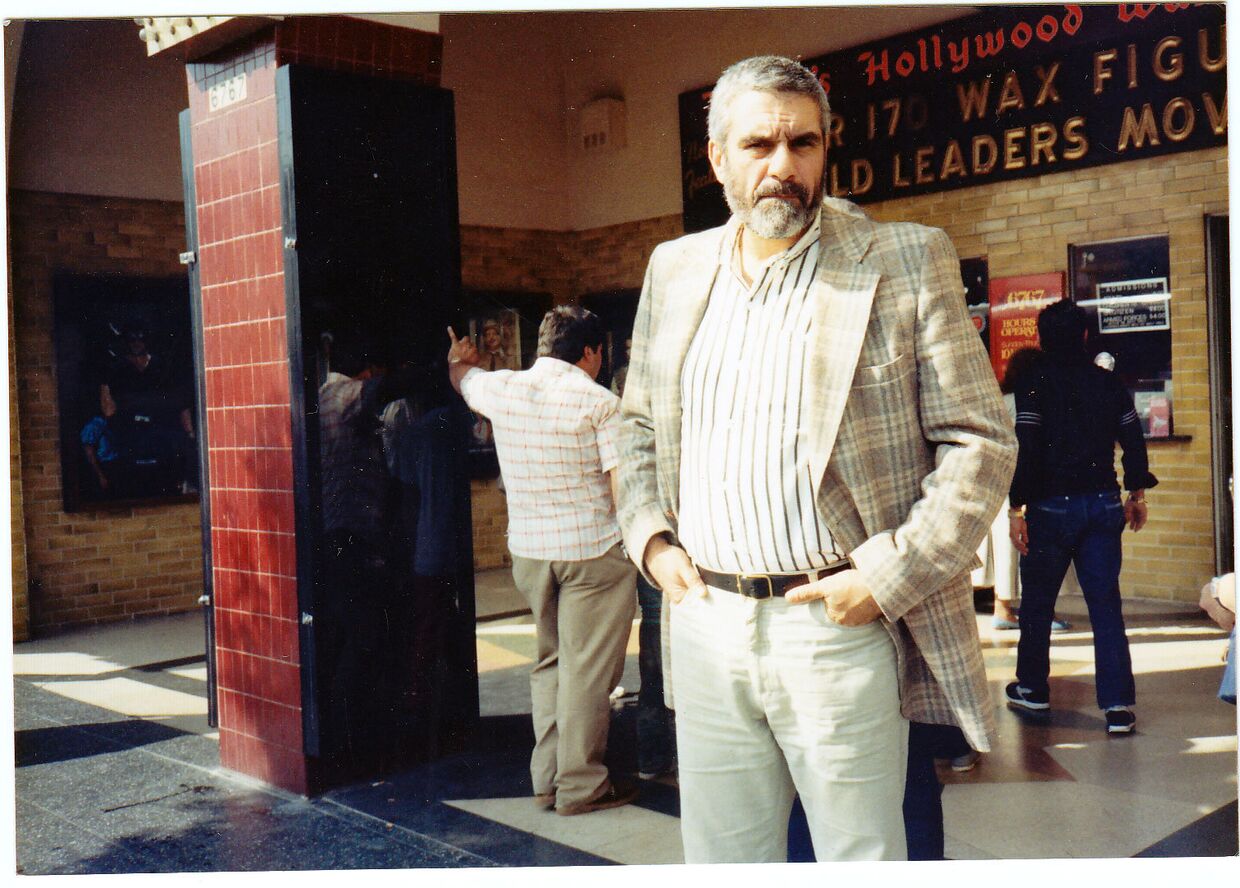«Политическая работа должна быть конкретной» — это один из тех воодушевляющих советских лозунгов, которые упоминаются в романе Сергея Довлатова «Зона». Ирония заключается в том, что то же самое можно сказать и о хороших литературных произведениях. А можете ли вы вспомнить хотя бы одного современного писателя, который был бы более конкретным, чем Довлатов? Его идеи обретают форму предложений, для которых характерна афористичная лаконичность: «Один рождается нищим, другой — богатым. И деньги тут фактически ни при чем». Парадоксы, острый ум и блестящие шутки: «Борька пьяный и Борька трезвый настолько разные люди, что даже не знакомы между собой». Или: «Что можно сказать охраннику, который лосьон “Гигиена” употребляет только внутрь?» Резкие, точные характеристики, оттеняемые вспышками абсурдизма: «Автомашины проносились мимо наподобие подводных лодок». Диалоги в духе саркастичных комедий Во:
— Ты просто все забыла. Хамство, ложь…
— В Москве и нахамят, так хоть по-русски.
— Это-то и страшно!..
Люди, вещи, одежда, воспоминания, истории — все это мгновенно становится осязаемо наглядным.
«Невнятные ускользающие воспоминания коснулись Алиханова… Зимний сквер, высокие квадратные дома. Несколько школьников окружили ябеду Вову Машбица. У Вовы испуганное лицо, нелепая шапка, рейтузы… Кока Дементьев вырывает у него из рук серый мешочек. Вытряхивает на снег галоши. Потом, изнемогая от смеха, мочится… Школьники хватают Вову, держат его за плечи… Суют его голову в потемневший мешок… Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно».
Чтение книг Довлатова — это увлекательное, захватывающее и, как правило, веселое занятие, и это отчасти объясняется тем, что у него потрясающий талант делать свои истории очень конкретными: он коллекционирует сценки, бросающиеся в глаза портреты, остроты, смешные байки, абсурдные случаи, черные анекдоты, а затем неожиданно достает их из эфира слухов или глубин памяти, вдыхая в них новую жизнь на бумаге. Он улавливает, а затем освобождает: его работы переполняются этими уловленными и вновь освобожденными мгновениями жизни. Один из персонажей «Зоны», заключенный Макеев, залезает на крышу тюрьмы, чтобы поглядеть на женщину, в которую он влюбился, учительницу по имени Изольда Щукина. Он не может разобрать ни ее черт, ни даже ее возраста. Он знает только, что она носит два платья — зеленое и коричневое: «Рано утром Макеев залезал на крышу барака. Через некоторое время громогласно объявлял: «Коричневое!» Это значило, что Изольда пошла в уборную». В «Чемодане» рассказывается история о статуе Ленина, с которой случился казус. На церемонию открытия нового памятника пришло множество людей. Играет оркестр, произносятся торжественные речи. Затем звучит барабанная дробь, покрывало падает, и перед взорами собравшихся предстает Ленин в хорошо знакомой позе: его вытянутая правая рука указывает путь в будущее, а левую он заложил в карман своего расстегнуто пальто. Музыка замолкает, и неожиданно слышится чей-то неуверенный смешок. «Через минуту хохотала вся площадь… Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке». В той же книге Довлатов вспоминает, как его однажды попросили сыграть дедушку Мороза на новогоднем утреннике в школе. За это ему пообещали три отгула и 15 рублей. Он появился на сцене в бороде, белой шапке и с корзиной подарков. «Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаете?» И дети, сидевшие в первых рядах, дружно закричали: «Ленин! Ленин!»
В «Иностранке» можно найти множество блестящих зарисовок русских эмигрантов, живущих в Нью-Йорке, таких как Фима Друкер, который когда-то был в Ленинграде известным библиофилом, а теперь руководит издательством «Русская книга», борющимся за выживание в Америке и в конце концов переименованным в «Невидимую книгу» (теперь оно, очевидно, специализируется на эротике); или Зарецкий, журналист, снискавший в Советском Союзе дурную славу за свою «обширную» работу «Секс при тоталитаризме», опубликованную в самиздате, где «говорилось, что 90% советских женщин — фригидны». В одном отрывке своего романа Зарецкий пытается провести исследование сексуального характера над героиней романа, эмигранткой Марусей Татарович, и вопросами, которые он ей задает, он пытается выяснить, потеряла ли она девственность «до или после венгерских событий».
Сергей Довлатов родился в 1941 году в Уфе, в республике Башкирия. Его семью эвакуировали из Ленинграда после начала Второй мировой войны. Его мать была армянкой, а отец — евреем и выдающимся театральным режиссером. Его глубоко автобиографические работы — где тепло и естественно переплелись факты и вымысел и где вымысел часто забавно сочетается с тем, что в постмодернизме называется метаповествованием (то есть комментариями о процессе написания литературного произведения) — представляют собой полную жизни картину, рассказывающую о жизни самого обыкновенного человека. В книгах Довлатова, в том числе в этом романе, мы узнаем подробности множества фаз его короткой жизни (он умер в Нью-Йорке в 1990 году): о его родителях и их работе в театре (удивительный рассказ «Куртка Фернана Леже»), о том времени, когда в начале 1960-х годов ему довелось поработать тюремным охранником в советской лагерной системе («Зона»), о его журналистской деятельности в Ленинграде и Эстонии («Чемодан» и «Компромисс»), о том лете, когда он работал гидом в Пушкиногорье к югу от Пскова («Заповедник»).
Книги Довлатова не издавались в Советском Союзе при его жизни. В 1970-е годы его работы печатались в самиздате и начали издаваться в европейских журналах, что в конечном итоге привело к исключению Довлатова из Союза советских писателей в 1976 году. Он покинул Советский Союз в 1978 году, а в 1979 году он приехал в Нью-Йорк, где его ждали его жена и дочь, в рамках так называемой третьей волны русской иммиграции (этот волнующий переезд он предчувствовал уже в «Заповеднике» и более подробно описал в «Иностранке» и мемуарах «Наши», где он рассказывает о жизни четырех поколений своей семьи). В Нью-Йорке Довлатов быстро стал одним из самых выдающихся и популярных членов русского эмигрантского сообщества. Он стал редактором The New American, либеральной эмигрантской газеты, а также начал сотрудничать с Радио «Свобода». Но большую часть времени он уделял своим книгам: за последние 12 лет своей жизни он написал 12 книг. В 1981 году вышла его книга «Компромисс», годом позже — «Зона», в 1983 году — «Наши», в 1986 году — «Иностранка» и «Чемодан». Эти книги были написаны на русском языке и печатались небольшими издательствами, такими как Hermitage Press в Тенафли, штат Нью-Джерси, или Russica в Нью-Йорке. И только в середине 1980-х годов, когда книгами Довлатова заинтересовалась более широкая аудитория (отчасти благодаря публикации нескольких его рассказов в The New Yorker), на него обратили внимание англоязычные издатели: в 1985 году вышел в свет перевод «Зоны» (Knopf), а в 1990 году — перевод «Чемодана» (Weidenfeld).
В 1983 году был издан роман Довлатора «Заповедник». Прошло 30 лет, прежде чем его опубликовали на английском языке в блестящем переводе его дочери Екатерины Довлатовой. Как и все остальные работы Довлатова, этот роман обладает шармом, изюминкой, живостью и особой свежестью. Повествование в этой книге ведется от лица альтер-эго автора, Бориса Алиханова, молодого, никому не известного писателя, страдающего алкоголизмом, который на лето уезжает работать экскурсоводом в поместье Пушкина недалеко от Пскова. В «Зоне», книге о работе надзирателем в советской тюрьме, Довлатов написал, что он сознательно воздерживается от рассказов о самых диких, кровавых и чудовищных эпизодах лагерной жизни — отчасти по причинам нравственного и эстетического характера, а отчасти потому что он не хотел славы Шаламова и Солженицына, известных своими леденящими описаниями жизни в ГУЛАГах. «И меня абсолютно не привлекают лавры Вергилия, который ведет Данте по аду (При всей моей любви к Шаламову). Достаточно того, что я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике». В этой книге Довлатов высказал мысль о том, что советский лагерь — это советское общество в миниатюре, и одной из уникальных особенностей «Заповедника» является та шутливая манера, в которой он описывает поместье Пушкина, как, с одной стороны, тюремный лагерь щадящего режима, с другой — как очередной аналог советской реальности в миниатюре, где есть и амбициозные аппаратчики, и верные идеологи, и злобные обыватели, и отвратительные стукачи и диссиденты-интеллектуалы (и сам Довлатов под маской Бориса Алиханова). Разумеется, поскольку в данном случае речь идет о мягкой и литературной версии реальности, все аппаратчики и идеологи являются преданными поклонниками Пушкина, требующими беспрекословного поклонения этому литературному идолу. Марианна Петровна, которая работает в поместье методистом, провела быструю оценку Бориса:
— Вы любите Пушкина?
Я испытал глухое раздражение.
— Люблю.
Так, думаю, и разлюбить недолго.
— А можно спросить – за что?
Я поймал на себе иронический взгляд. Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой. А вдруг, мол, я — фальшивомонетчик…
— То есть как? — спрашиваю.
— За что вы любите Пушкина?
— Давайте, — не выдержал я, — прекратим этот идиотский экзамен.
В романе мы сталкиваемся с хорошо узнаваемыми довлатовскими портретами, наполненными мягкой иронией: к примеру, Митрофанов, экскурсовод, известный своей фотографической памятью, который прочитал 10 тысяч книг, но который страдает неизлечимой формой лени. Он страдает, по словам Довлатова, абулией, то есть «полной атрофией воли»: «Он был явлением растительного мира. Прихотливым и ярким цветком. Не может хризантема сама себя окучивать и поливать». Довольно странно, но жизнь в Пушкинском заповеднике устраивает Митрофанова, и он с удовольствием читает фантастически подробные и полные научных деталей лекции в основной своей массе неблагодарным туристам. Или Гурьянов, прославившийся своим абсолютным невежеством, который однажды спутал пушкинские «Повести Белкина» с тем, что он назвал «Повестью Ивана Онегина». Или Михаил Иванович Сорокин, деревенский алкоголик, в чьем полуразвалившемся доме Борис снимает комнату и который просит, чтобы ему платили не деньгами, а выпивкой и сигаретами.
Как другие работы Довлатова, «Заповедник» насквозь пронизан юмором и особой, характерной для Довлатова дикой веселостью. Однако Довлатов является экспертом в том, что Гоголь когда-то назвал «смехом сквозь слезы». В «Заповеднике» смелым, авантюрным проделкам практически в духе героев Вудхауса постоянно угрожают обязательства и сложности, от которых Борис пытается убежать — каково это быть писателем в Советском Союзе, как можно жить в мире и согласии с женой и дочерью. «Формально я был полноценной творческой личностью. Фактически же пребывал на грани душевного расстройства». Эти проблемы проявляются в концентрированной форме, когда жена Бориса начинает настойчиво поднимать вопрос об эмиграции. Неожиданно приехав в Пушкинский заповедник, она сообщает Борису, что она приняла решение: на следующей неделе она подает документы на оформление разрешения на выезд. Бориса охватывает иррациональный страх. Он отказывается уезжать из Советского Союза. Он любит свою страну: «Мой язык, мой народ, моя безумная страна… Представь себе, я люблю даже милиционеров». Эмиграция кажется ему смертью. Он говорит Тане, что «на чужом языке мы теряем 80% своей личности». Америка кажется ему почти вымышленным, фантастическим местом: «Полузабытый кинофильм с участием тигра Акбара и Чаплина».
Кажется, Борис уже предчувствует ту эмигрантскую жизнь, о которой Довлатов напишет тремя годами позже в «Иностранке», книге, которая, подобно «Заповеднику» наполнена неподдельным весельем и трепетной грустью. Персонажи «Иностранки» изо всех сил пытаются приспособиться к жизни в Нью-Йорке — среди них есть Караваев, который в Советском Союзе был известен как отважный правозащитник (побывавший три раза в тюрьме и много раз устраивавший голодовки). Довлатов пишет, что Америка разочаровала Караваева: «Ему не хватало здесь советской власти, марксизма и карательных органов. Караваеву нечему было противостоять». Героиня «Иностранки» Маруся Татарович приходит к выводу о том, что она совершила ошибку, уехав из России, и пытается вернуться. Довлатов (который появляется в этой книге под своим именем) спрашивает ее о перспективах потери ее недавно обретенной свободы. «На фиг мне свобода! Я хочу покоя». У Маруси, выросшей в атмосфере относительной привилегированности в Советском Союзе, были весьма скромные экономические перспективы в Нью-Йорке: «Тарелки мыть в паршивом ресторане? На программиста выучиться? Торговать орехами на Сто восьмой? Да лучше я обратно попрошусь!» В советском посольстве ей сказали, что признание своей ошибки в частной беседе — это все очень хорошо, но теперь, если она хочет вернуться обратно, она должна заслужить прощение. (Политическая, довольно комичная версия идеи Достоевского о том, что преступник должен «принять страдание».) Марусе сказали, что, чтобы публично искупить свою вину, ей придется написать статью в газету, в которой она должна подробно изложить совершенные ей ошибки. Маруся попыталась возразить, сказав, что она не умеет писать статьи. Тогда кто будет писать? «Я попрошу Довлатова». Нет никакой необходимости говорить о том, что статью так никто и не написал и что, хорошо это или плохо, Марусе пришлось остаться в Америке.
В книгах Довлатова постоянно так или иначе затрагивается тема свободы. В этом смысле Борис из «Заповедника», вероятнее всего, стоит в одном ряду с Караваевым и Марусей Татарович из «Иностранки» и Чичевановым из «Зоны», заключенным, который бежит из лагеря всего за несколько часов до своего официального освобождения: проведя 20 лет за решеткой, он так боится свободы, что хочет только, чтобы его поймали и снова посадили в тюрьму. «За воротами тюрьмы, — говорил один из надзирателей, — ему было нечего делать. Он дико боялся свободы и задохнулся бы как рыба». Довлатов добавляет: «Нечто подобное испытываем мы, российские эмигранты».
Дело не просто в том, что свобода может оказаться пугающей, непривычной, нереальной: дело в том, что она может оказаться вовсе не такой свободной, какой ее рекламируют — не такой, какой ее обещают. Если вы откажетесь пойти на риск испытать это «разочарование» свободой, вы по крайней мере не испытаете этого разочарования. Именно поэтому Борис отчаянно отстаивает — доходя порой до абсурда — свой несуществующий статус русского писателя: когда Таня напоминает ему о том, что его книги не печатаются (и, вероятнее всего, никогда не будут напечатаны) в Советском Союзе, он отвечает: «Но здесь мои читатели. А там… Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?» Возможно, лучше иметь нереализованный потенциал, чем навсегда утратить актуальность. Для Бориса, как и для всех эмигрантов из книг Довлатова, характерно это двойственное ощущение свободы, одновременно положительное и отрицательное, о котором в конце своего рассказа «Один из многих» (One out of Many) так блестяще написал В.С. Найпол (V.S. Naipaul). В этом рассказе речь идет о бедном слуге из Бомбея по имени Сантош, который сопровождает своего хозяина, дипломата, в Вашингтон. В Америке Сантош долгое время не может найти своего места, однако? в конце концов? он женится на афроамериканке и получает право остаться в США. Его новый работодатель, владелец индийского ресторана, уверяет его, что в Америке, в отличие от Индии, никого не волнует, что он женился на чернокожей женщине: «Никто на тебя не смотрит, когда ты идешь по улице. Никого не волнует, чем ты занимаешься». На что Сантош ответил: «Он был прав. Я был свободным человеком, я мог делать все, что хотел… Что я делал, было неважно, потому что я был одинок». Жить в стране, где никого не волнует, чем вы занимаетесь, это огромная привилегия, однако, если никому не интересно, что вы делаете, тогда, возможно, вообще неважно, чем заниматься. Вероятно, предчувствуя нечто подобное, Борис так боится и колеблется: гораздо проще не принимать вообще никаких решений. Он позволяет своим жене и дочери поехать вперед.
Свобода — это явление одновременно реальное и идеальное, конкретное и метафизическое. Существуют некие установленные правила, такие как диктатура закона, свобода слова, экономические возможности и ограничения, материальные обстоятельства, и, разумеется, эти условия оказывают огромное влияние на жизнь эмигрантов. Однако эмигранты находятся в состоянии некой странной, чистой, почти метафизической свободы: это, как считал Набоков, и есть тот передвижной, хранимый в памяти мир, который эмигрант привозит с собой из своей страны. Набоковский эмигрант, профессор Пнин, говорил, что внутри вас всегда есть передвижной, сокровенный, неприкосновенный, неразочаровывающий мир: рассказы, люди, воспоминания, анекдоты и шутки, даже знаменательные даты национальной истории — то есть вся культурная формация эмигрантов: «блистающий мир, казавшийся особенно ярким после того, как один удар истории разом уничтожил его», как видит его Пнин. Именно поэтому Довлатов способен глядеть на единственный чемодан, который он привез с собой из Советского Союза, и презирать все то, что находится внутри него (шляпу, куртку, рубашку, перчатки). Вещи не имеют значения. Значение имеют те истории, которые вещи несут в себе, те истории, которые превратились в книгу под названием «Чемодан», те истории, которые оживляют каждую страницу его романов. В этом смысле вещи теряют свою конкретность. Конкретными становятся истории, блестяще запечатленные и увековеченные великим писателем для многих поколений будущих читателей. Не уверен, что Борис в конце романа «Заповедник» понимает это, но нам очень повезло, что это понял Сергей Довлатов.