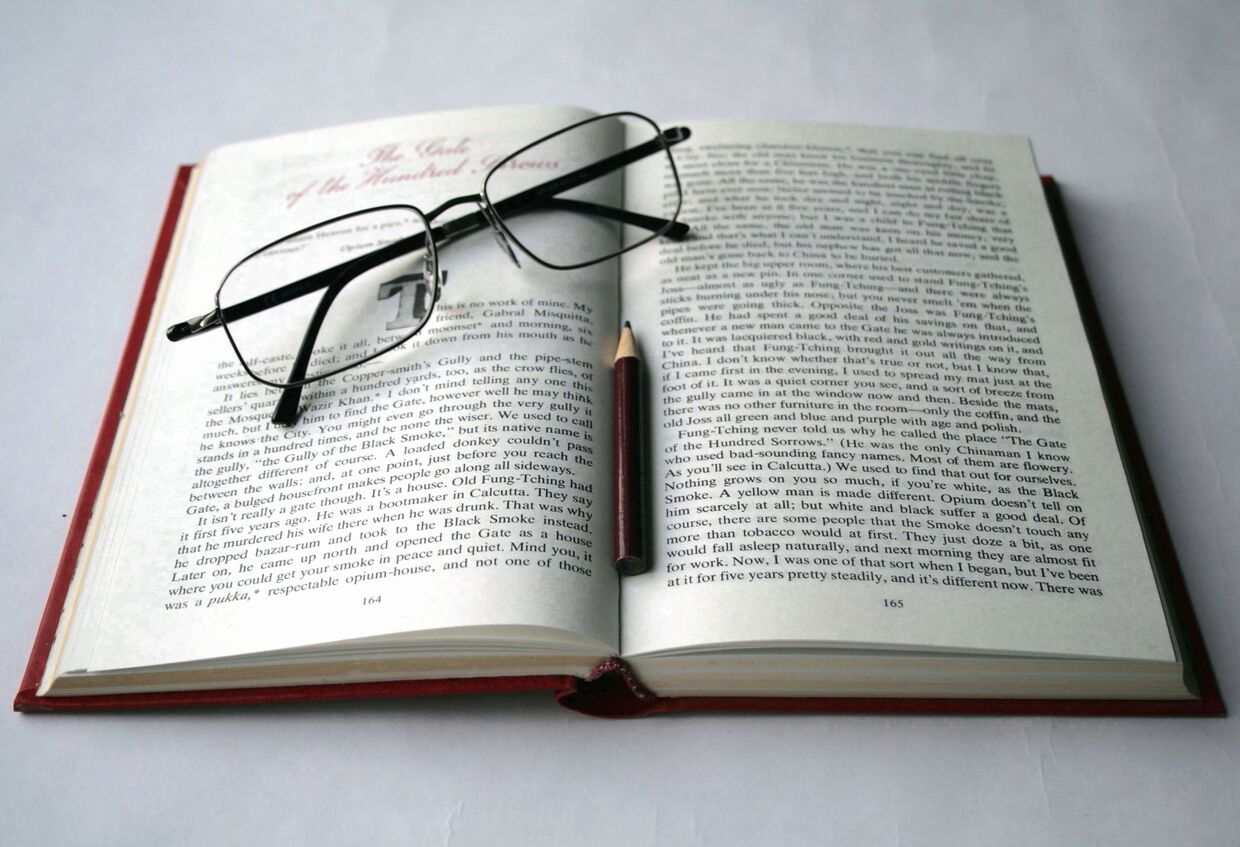В 1869 году разгорелся яростный спор между русским химиком Дмитрием Менделеевым и его немецким коллегой Лотаром Майером (Lothar Meyer) по поводу того, кто раньше открыл периодическую закономерность химических элементов. Поводом для спора послужило резюме исследований Менделеева, опубликованное в немецком «Химическом журнале» (Zeitschrift der Chemie). К сожалению, переводчик допустил ошибку и перевел слово «периодическая» как «ступенчатая», в связи с чем термин утратил значение повторения, которое характерно для порядка элементов в таблице и составляет важный аспект открытия.
Майер, примерно в то же время проводивший свои исследования и пришедший к аналогичным выводам, что и Менделеев, прочитав эту статью, не увидел повода уступить коллеге пальму первенства. Ознакомившись же позднее с русским оригиналом статьи, он сказал: «Требование, чтобы мы, немецкие химики, читали научные работы не только на германских и романских, но и на славянских языках, представляется мне чрезмерным».
Этот эпизод, который историк Майкл Гордин описал в своей работе «История научных языков», освещает ситуацию в Европе XIX столетия. Реакция Майера чем-то, на первый взгляд, похожа на реакцию современных англоязычных ученых, которым сама мысль о том, чтобы читать специализированную литературу на любом другом языке, кроме английского, кажется неприемлемой. Решающее отличие, однако, заключается в том, что Майер признавал и за другими языками «совместимость с наукой».
Под «германскими и романскими языками» подразумевались, в первую очередь, немецкий, английский и французский. По словам Гордина, этот своеобразный «триумвират» доминировал в международной научной среде, начиная примерно с 1850 года — в первую очередь, благодаря значительным успехам химиков и физиков, для которых эти языки были родными.
Что касается латыни, то она к этому времени постепенно переставала быть языком, активно использовавшимся учеными. Русский же язык, лишь сравнительно поздно «доросший» до уровня научного, так и не смог закрепиться на международной арене. Гордин сосредоточился в своем повествовании — за исключением небольшого экскурса в сторону латыни — на времени с начала доминирования французско-англо-немецкого «триумвирата» до нынешних лет, когда «монополия» в научной сфере принадлежит английскому языку. При этом он оставил за скобками гуманитарные науки, а также ориентированные на практику дисциплины вроде медицины или инженерии. В этих областях развитие протекало иначе, потому что они значительно сильнее привязаны к родным языкам.
Несомненная заслуга Гордина и его работы состоит в том, что он представляет «англизацию» науки не как неизбежный и принудительный процесс, а как результат развития, которое во многих аспектах вполне могло бы получить и иное направление. Во всяком случае, кажущаяся простота английского языка не играла при этом никакой роли: еще в первые десятилетия ХХ века в англоязычных странах были распространены опасения, что английский из-за своей «сложности» не сможет стать основным языком науки.
Основными препятствиями считались его несистематизированная орфография, сильные глаголы и множество слов, которые были друг для друга почти синонимами, но именно почти, но не совсем.
Что же касается неудержимого «взлета» английского языка, то он стал возможен благодаря столь же неудержимому «крушению» немецкого. Между 1900 и 1925 годами, когда французский язык постепенно терял свое международное значение, немецкий по количеству научных публикаций даже превосходил английский. Но, несмотря на это, его судьба к тому моменту была уже предрешена.
Бойкот, объявленный учеными из стран Антанты своим немецким и австрийским коллегам, которых они перестали приглашать на международные форумы и работы которых перестали публиковаться в научных изданиях, продлившийся до 1926 года, по сути, означил собой закат немецкого языка на интернациональном научном уровне. Не менее важную роль в этом сыграл и статус немецкого как «вражеского языка» в Соединенных Штатах, где было запрещено его преподавание в школах и университетах.
Окрыленным этим взлетом английского к статусу ведущего научного языка американским университетам знания других иностранных языков постепенно стали казаться своеобразным балластом, от которого можно было безболезненно отказаться. Молодые физики и химики, которые еще в 1920-х годах приезжали учиться в немецкие университеты, в частности, в Гёттинген, постепенно отказались от этой практики. Для молодых людей, родившихся после 1920 года, по словам Гордина, немецкий язык перестал играть важную роль, с точки зрения их становления как ученых.
Гигантские «субстанционные» и имиджевые потери, которые понес немецкий язык вследствие правления национал-социалистов, из-за чего, среди прочего, началась колоссальная «утечка мозгов» из Германии, лишь усугубили его провал на международной научной арене.
Надеждам же французских и русских ученых и политиков на то, что их языки смогут занять нишу, освободившуюся после схода со сцены немецкого, не суждено было сбыться. Таким образом, единственным победителем в этой схватке стал английский. Впрочем, это тоже было не что-то само собой разумеющееся: с началом холодной войны и особенно после запуска первого советского космического спутника в Северной Америке прилагались большие усилия по улучшению знаний русского языка среди тамошних ученых, чтобы те имели возможность изучать советские публикации.
Именно тогда появились и первые проекты по компьютерному переводу с одного языка на другой, не увенчавшиеся, впрочем, успехом: с противоположной стороны «железного занавеса» американцам противостоял огромный институт, тысячи сотрудников которого изучали и переводили на русский язык англоязычные научные работы.
Однако в конечном итоге русскому языку не удалось изгнать английский даже с территории стран, входивших в сферу влияния СССР. А поскольку переводы работ восточноевропейских ученых на английский делали их доступными по всему миру, это дополнительно усиливало позиции английского языка по отношению к русскому, который окончательно потерял свои позиции после распада Советского Союза и Варшавского договора.
Гордин обращает в своей работе внимание также на попытки развить некий нейтральный научный язык. В частности, речь идет об инициативе по возрождению вышедшей из обращения латыни — в несколько упрощенной форме (это предложение принадлежало математику Джузеппе Пеано (Giuseppe Peano)). А химик из Лейпцига, будущий лауреат Нобелевской премии Вильгельм Освальд (Wilhelm Oswald) выступал за развитие языка идо на основе эсперанто. И поскольку идо был задуман лишь языком научного общения, не являясь при этом национальным языком в какой-либо стране, его шансы на успех могли бы быть не так уж и плохи.
Однако конкуренция между различными группировками и конфликты между разными странами в преддверии Первой мировой войны не позволили этой инициативе воплотиться в жизнь. Этот исторический шанс оказался упущен. Так что, как бы то ни было, теперь миром правит английский.
Немецкий выбыл из гонки как вражеский язык: Майкл Гордин (Michael Gordin) описал в подробностях, как английский стал единственным универсальным языком науки.