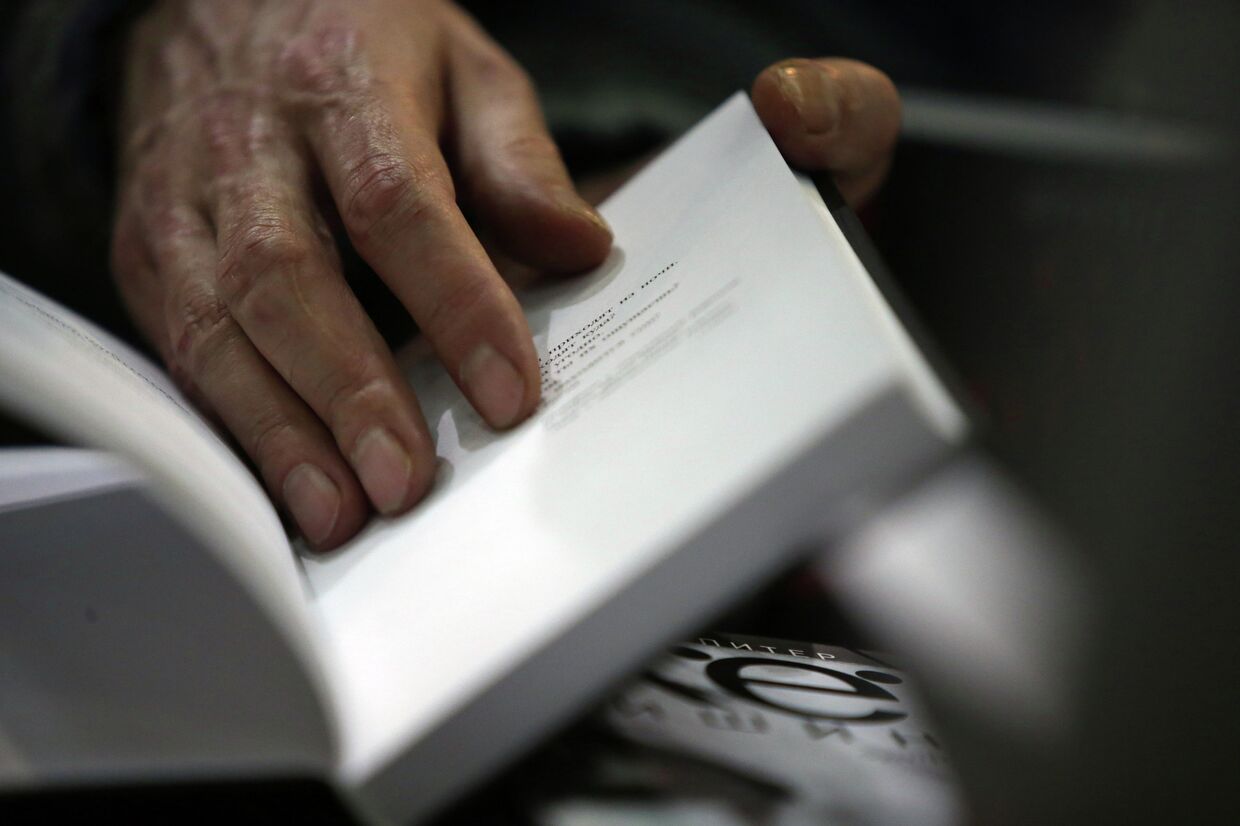RFI: В своих постах на Facebook вы ужасно трогательно называете «Веру» своей богиней и вообще говорите об этой книге как о живой. Для вас это важный текст?
— Все тексты для меня важны одинаково, а «Вера», конечно, очень важна, потому что я впервые писал о женщине так серьезно. Впервые женщина, она же и богиня, является главным героем моей истории.
Я впервые связался с такой темой, и она меня за собой повела. Я начинал небольшую историю, написал, потом чувствую, что хочу продолжать — начал развивать ее. За три года, пока я над ней работал, я очень много понял про женщин, про людей — я не отделяю в этом смысле мужчин и женщин — про себя. Знаете, чем хороша литература? Тем, что ты начинаешь понимать людей, люди перестают быть просто телами, фигурами. Ведь, когда пишешь, ты, в идеале, должен становиться своими героями.
— Для этого ты должен забывать себя? Придумывать себе внутренние вериги?
— Надо обладать живым сознанием и живой душой. Все настоящие писатели этим свойством обладают и развивают его. Я бы сравнил это с работой актера — нужно убирать себя и становиться другим человеком. Не притворяться другим человеком, а быть им. И не только человеком, а предметом, всей сценой, всем миром, который ты описываешь.
Когда читаешь «Войну и мир», то, строго говоря, это — мир под названием «Толстой». Ты даже шелест листьев на дубе слышишь, когда мимо него проезжает князь Болконский.
Мне, как мне кажется, местами удавалось становиться и Верой, и тем небольшим, но важным для меня миром, в котором она живет. У меня особого плана не было, были прикидки — может это случиться, может то случиться. Я наблюдал за моими знакомыми или незнакомыми женщинами и, естественно, набралось много прототипов. Я планировал провести Веру по тем или другим путям. Но в какой-то момент она сама повела меня за собой. Мне оставалось только записывать и с сожалением или без сожаления отказываться от своих планов и просто идти за ней.
Это, кстати, идеальное состояние писательской работы. Я бы это сравнил с работой золотоискателей — они просто роют, но когда натыкаются на золотую жилу, следуют за ней. Ни один золотоискатель не будет копать с противоположную сторону, уже наткнувшись на золото. Работа писателя такая же — ты натыкаешься и должен отказаться от всех своих планов, от того, как ты хотел устроить композицию романа, развить героя. Ты уже должен слушать, что тебе говорит литературная история. Главное — ничего не проворонить.
— Мне кажется, что у вас образы женщин выписаны сильно и живо. Хоть мы и не знаем имени вериной матери, но мы видим ее ярко и близко, видим Катерину, подругу Веры — Наташу, которая то тут, то там появляется. А к мужчинам у вас скорее ироничное отношение.
— Как к себе самому, строго говоря. Наблюдение ваше правильное. Мужчины невольно получились у меня немного гротескными. Не скажу, что карикатурными, потому что у каждого их этих мужчин есть глубоко драматичные черты. У лысого полицейского — больной ребенок. У интеллигента-режиссера в жизни тоже черт знает что происходит. Понимаешь, что его психозы — не просто так.
Сам я не люблю, когда, знаете, читаешь книгу или смотришь фильм, и тебе показывают человека-чудовище. Почему он чудовище, зачем — непонятно. Просто монстр. Всегда ведь есть какая-то причина. Мне было важно понять своих героев — не показать читателю, а самому понять, почему они такие. Конечно, я их наделял и своими чертами: неуверенность, метания, то, что я вижу вокруг.
— Я читала ваши рассказы, и мне понравился рассказ, который называется «Как же ее звали». Это тоже история женщины, которая через многое прошла. Получается, образ русской женщины волновал вас еще до «Веры»?
— Здорово, что вы вспомнили этот рассказ. Не могу сказать, что я им полностью доволен, но я ему очень рад. Я вообще не воспринимаю собственную прозу как достижение. Это не кокетство. Импульсы приходят извне, я их не произвожу. Я и получаю большое удовольствие от литературы, потому что приходят идеи и находишься в состоянии постоянного звездопада — вдруг падает сверкающая снежинка, и ты начинаешь ее рассматривать и пытаться передать ее красоту всем остальным людям. Иногда это тебе удается.
То же самое в «Как же ее звали». Я помню, мы стояли в пробке — отец за рулем, я рядом — на железнодорожном переезде, ждали, когда он откроется. Я спросил: «А вообще, кто твоя первая любовь, пап?» А моему отцу уже 81 год, у него очень хорошее чувство юмора. Он долго вспоминал, а когда вспомнил, рассказал двумя-тремя словами, очень ярко и точно. Это было одним из импульсов для этого рассказа.
Вторым импульсом стала удивительная и совершенно реальная история из моего детства. Моя бабушка, будучи вдовой, оставшись одна в квартире, сдавала комнату студентам — она жила около МГУ. И однажды она влюбилась в одного из своих квартирантов. Начала его ревновать. Я помню этого парня, он был армянином, и звали его Артур. Он был бритый, и один раз я его видел — он был в синей олимпийке с белыми полосками. Недавно, пару лет назад я оказался в такой же ситуации — я был во Флоренции, снял комнату, и хозяйка, пожилая дама, предложила мне спать с ней в одной кровати, потому что ее кровать — якобы тесная. И у меня вдруг все в голове сложилось.
В чем удовольствие быть писателем? В том, что ты вдруг вспоминаешь разговор с отцом, историю собственной бабушки, плюс нелепую историю с квартирной хозяйкой. Все это складывается в один механизм и начинает работать. Так я написал этот рассказ.
Но этим дело не закончилось. Несколько дней назад, глядя на себя в зеркало, я увидел брито-лысого брюнета в синей олимпийке с белыми полосками, которую купил месяц назад. Жизнь неплохая писательница, согласитесь. Умеет закольцовывать сюжеты.
— Вы ведь по образованию политолог, а до этого учились в МАРХИ, у вас много разных профессий — вы работали прорабом, писали сценарии для телевидения. Сейчас вы занимаетесь литературой. Насколько сегодня это доступно и на что человеку нужно идти, чтобы стать писателем?
— Учился в МАРХИ, не особо любя это дело, бросил в итоге. Со стройкой меня жизнь столкнула 10 лет назад — когда мы строили дом в деревне. Сначала я к этому относился как любой человек, который боится ремонта, не то что стройки. Сначала этим активно занималась моя жена, тоже ничего в этом не понимая, но ворочала горы, руководя рабочими. А потом я включился и фактически получил новую профессию — теперь даже могу давать какие-то советы по стройматериалам, дизайну и декору.
Удивительно в этом, помимо прочего, и то, что мой дед по линии отца происходит из деревни каменщиков — до революции деревни часто специализировались на ремесле. Сколько поколений этой деревни занималось каменой кладкой — неизвестно. Но я точно знаю, что мой прадед, прапрадед и мой дед в 12 лет уже работали подмастерьями. Поразительно, что на моем отце эта традиция прервалась, а я снова вернулся к стройке и очень это люблю. Более того, вижу в этом параллель с литературой, потому что устройство текста и дома очень похожи. Без фундамента/проекта/замысла нет ни дома, ни текста. Увлечёшься декором, упустишь суть, перемудришь с планировкой, читатели/обитатели запутаются.
В России много рабочих из Средней Азии, и они не очень хорошо знают русский язык. Разговаривая с рабочими, я понял важную вещь — надо быть лаконичным, подбирать точные, правильные слова. Речь должна быть скупой и предельно ясной, без лишней воды и ненужных эмоций. Не могу сказать, что я достиг в этом совершенства, но когда работаю с текстом, стараюсь вспоминать разговоры со среднеазиатскими рабочими, чтобы все было понятно, ясно и лаконично.
— Но сегодня вы живете только литературой? Идентифицируете себя как писателя?
— Стройкой и литературой. Я не называю себя профессиональным писателем, потому что это — человек, который системно выдает какое-то количество текстов, имеет календарный план, соответствующие контракты, а, самое главное, соответствующий темперамент. Я не такой человек. Не то чтобы я бешено завишу от вдохновения, хотя и завишу, но я не называю себя профессиональным писателем и вряд ли когда-нибудь им стану.
У меня есть знакомые профессиональные писатели. Это люди, которые существуют как проекты, пишут по 3-4 романа в год. Это жанровая литература: любовные романы, детективы, оптимистические или мистические детективы. Я считаю это профессионализмом хотя бы потому, что мало кто умеет выдавать качественный продукт на единицу времени.
— Периодически это не имеет отношения к литературе.
— Скажем прямо — это всегда не имеет отношения к литературе, но здесь мы выходим на вопрос, а подходит ли вообще слово «профессиональный» к искусству.
Я очень люблю бывать в лесу. Лес — для меня основная стихия. Когда я оказываюсь в лесу, то понимаю, вот она совокупность и красоты, и ужаса, и непознаваемости. Природа, которая может тебя прокормить и может тебя убить. Это стихия, из которой ты произошел и в которую ты вернешься, как бы ты не пытался ее изменить. Все равно она рано или поздно тебя поглотит. Можно вырубить деревья и построить поверх скоростные трассы, но однажды лес вырастет снова. И снова будут петь птицы и шелестеть кроны в вышине. Вот это восхитительное космическое чувство, которое у меня рождается в лесу, я иногда встречаю в литературе. Иногда у Достоевского, иногда у Исаака Зингера, у Сэлинджера, Фитцжеральда, иногда в стихах Пушкина.
Как писатель я мечтаю о том, чтобы хотя бы пытаться это ощущение передать в своих рассказах и романах. Вот это для меня важно.
— При этом вы же вписаны в некую российскую литературную среду — вы работаете для толстого литературного журнала, получаете премии.
— Я полгода работаю в журнале «Дружба народов». Но моя редакторская деятельность минимальна — я стараюсь найти для журнала какое-то финансирование, пишу просьбы, заявления. Пока безрезультатно. Не знаю, хорош ли я как редактор, потому что опыт мой невелик. Не знаю, буду ли я когда-нибудь с этим справляться, потому что для этого надо обладать рядом свойств — которые, не уверен, что у меня есть. Надо быть внимательным, педантом, уметь системно читать тексты, не навязывать собственное мнение, одновременно уметь объективно видеть недостатки, погружаться в текст. Может быть, когда-нибудь буду.
В литературную среду, пожалуй, я отчасти вписан. Только отчасти. Точно могу сказать, что есть устойчивая часть литературного истеблишмента, и просто этого круга, которую составляют люди, относящиеся ко мне, прямо скажем, без симпатий. Они считают меня балбесом, выскочкой, результатом какой-то случайности, непрофессионалом, нахалом из ниоткуда. В принципе, я абсолютно не переживаю по этому поводу. Если я раздражаю скучных зануд, значит живу правильно.
Несколько лет назад журнал «Собака» из Санкт-Петербурга неожиданно предложил мне интимную фотосессию. Строго говоря, на ней — я голый. Классная фотография получилась. Я очень рад, что был у меня такой опыт. Эта фотография, конечно, в свое время взбудоражила нашу смурную литературную общественность. Вы же понимаете, что нравы у нас зачастую ханжеские, а людям иногда не хватает светского навыка свое ханжество маскировать.
Но с другой стороны, моя вписанность в литературный мир безусловно присутствует. У меня есть хорошие, я надеюсь, добрые друзья. Я поддерживаю кого-то, кто-то поддерживает меня, и все это искренне, У меня есть друзья, очень талантливые писатели: Анна Козлова, Алиса Ганиева, Сергей Шаргунов. Его сейчас интеллигенция ненавидит за политические высказывания, и я с его политическими высказываниями по большей части не согласен. Но при этом я понимаю его мотивировки и знаю его как человека. Я знаю, что как человек он может быть разным и намного лучше тех, кто строит из себя праведника.
— Вы заговорили о политических высказываниях, и я хочу спросить вас о политике, тем более, что в романе «Вера» вы пишите в том числе и о событиях на Болотной. Вы были на этих митингах — чем они вам кажутся сейчас, четыре года спустя, и что вы думаете о будущем России в контексте того, что сейчас с ней происходит?
— На эти митинги я ходил совершенно искренне. Мне хотелось там быть, и, как я понимаю, все остальные люди были там по той же причине. В те дни было ощущение, что трон шатался. Все были воодушевлены, и все хотели каких-то перемен.
С тех пор перемен вроде по-прежнему хочется, но мир изменился — начались войны, экономические неприятности, появилось, естественно, разочарование. Мне эта ситуация напоминает декабрьские события 1825 года — некая элита выступила против высшего руководства, а высшее руководство бунт подавило.
Сейчас Россия пребывает в весьма непростом периоде — это ясно. Но, должен сказать, я во многом понимаю Путина. Может, так сказывается мое политологическое образование, может, писательское желание всех понять, но, боюсь, что окажись бы я на его месте, я бы действовал похожим образом.
Я помню, еще на первом курсе меня поразила одна фраза преподавателя: «Вы можете любить или не любить те или иные политические действия, вы можете как угодно к ним относиться. Но есть нюанс: в каждой профессии есть свои правила. Например, в футболе принято играть ногами и головой, в баскетболе — руками. А в политике есть свои правила, они включают в себя отказ от привычных нам, представителям западного, христианского мира, представлений о морали». Поэтому, когда мы ставим ей в упрек — мы сейчас говорим о российской власти — что «как же так можно, так нельзя поступать с соседями», если говорим об Украине, «так нельзя поступать на Ближнем Востоке», если мы говорим о Сирии. Но штука в том, что если ты занимаешься политикой, то у тебя другие мерила и задачи. И в контексте глобальной политический игры российская власть не делает ничего странного.
Что такое политика? Это захват и удержание власти. Другой трактовки нет и не будет. Этим занимается и правящая партия во Франции, и президент США, и кланы, которые за ним стоят. Этим занимается, конечно, и российская власть. Насколько они это правильно или неправильно делают — это другой вопрос. Но в той ситуации, в которой они находятся, не так уж много вариантов, чтобы удерживать власть и чтобы при этом все не рухнуло.
Несменяемость власти в России я считаю существенной проблемой. Рано или поздно такие вещи приводят к стагнации, застою, накоплению критической массы, которая однажды может очень непредсказуемо сработать. Если четыре года назад это были очень многочисленные, но безобидные митинги, то однажды может случиться совсем иначе.
— В этом смысле вас пугает изолированность России и особый русский путь вообще?
— Мы живем в стране, которая все время колеблется — то изолированность тотальная, как в сталинские времена, то наполовину, как в оттепель, то полное отсутствие изолированности. Сейчас опять частичная, продуктовая изолированность.
Надо понимать, что ничего нового здесь не происходит, это все уже было. Если бы это происходило во Франции, это было бы странно, но для России это не странно. Толстой, Достоевский и Гоголь работали в стране, где все это было. Гоголь вообще писал в николаевское время — это был мрачный, застойный период, страна погрязала в коррупции — это очень похоже на наше время. Тогда началась Крымская война. Чем она закончилась — мы знаем.
Кстати, то, что произошло во Франции (парижские теракты 13 ноября. — RFI) — это новинка. Когда это случилось, весь мир обалдел. Это говорит о том, что в пятницу 13-го началась Третья мировая война. Говорили, что она началась 11 сентября. Но тогда это была атака извне, а здесь — атака изнутри. Это фактически партизанская война.
Что сейчас будут делать французы после того, что устроили в Париже граждане, родившиеся в Европе? Это же катастрофа. Это твои соседи, одноклассники, друзья твоих друзей. Это настоящая гражданская война. Если она, не дай бог, разовьется, то мы все скоро окажемся в новом мире.
— У меня такое ощущение, что мы уже в нем оказались.
— Да. И потому, на мой взгляд, помимо трагических событий, нас ждут и любопытные открытия в искусстве. Так уж мир устроен, что искусство идет рука об руку с войной и глобальными переменами. Все мы знаем, какой взлет произошел в 20-е годы в России — были созданы величайшие архитектурные, художественные, литературные произведения. Масштабные перемены, которые происходят сейчас, естественно, приведут к переменам в сознании. Я жду появления нового стиля.
— В русской литературе?
— И в русской, и в мировой. Что-то сопоставимое с XIX веком, а, может быть, и с Античностью. Потому что перемены в литературе назрели, я говорю о русской литературе. Я, конечно, не ученый и могу ошибаться, но интуитивно чувствую, что дела обстоят именно так. Перемены назрели и скоро произойдут. Грядёт время жестоких чудес.
Александр Снегирев примет участие в «Днях русской литературы», которые пройдут с 8 по 10 января в мэрии XVI округа в Париже, а также представит свой роман «Вера» в парижском русском книжном магазине Librairie du Globe.