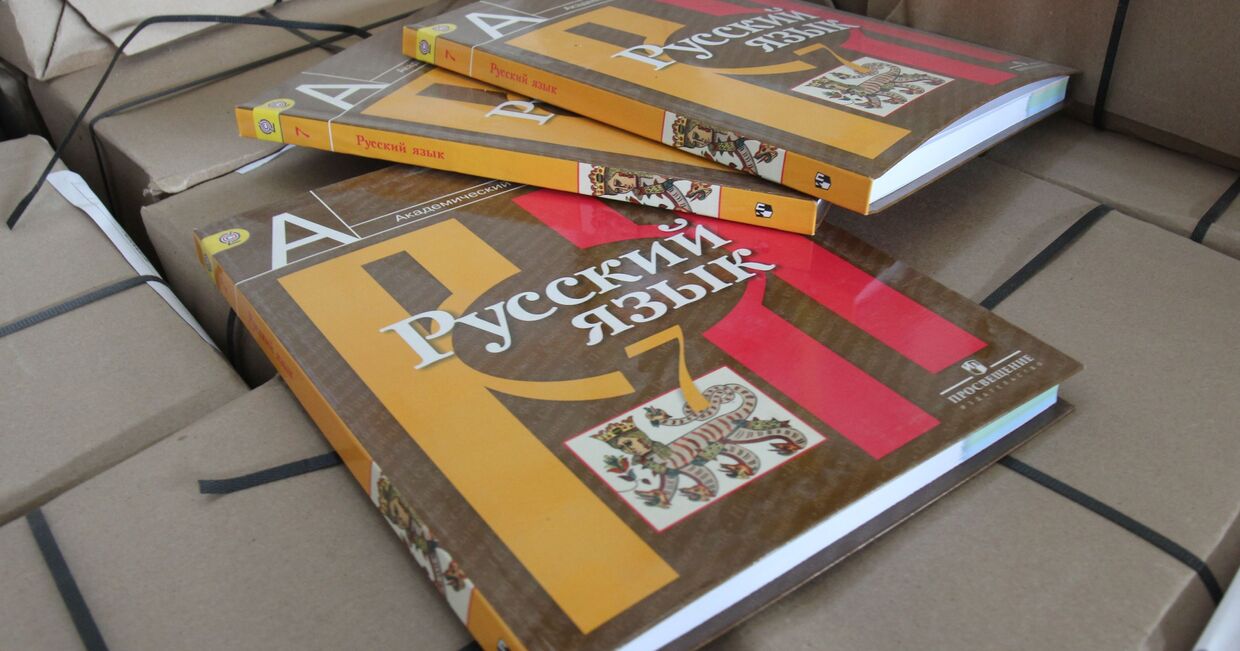В конце XIX века француз Поль Лафарг писал: «Подобно живому организму, язык рождается, растет и умирает; в продолжение своего существования он проходит ряд эволюций и революций, усваивая и отбрасывая слова, речевые комплексы и грамматические формы».
В работе Лафарга приводились любопытные примеры изменений, произошедших во французском языке в 1789-1794 годах.
До революции слово niveler означало «измерять нивелиром», а после революции — «уравнивать в правах». До революции spéculer значило «предаваться отвлеченным рассуждениям», после — «заниматься финансовыми спекуляциями». До революции lanterner означало «колебаться», а после — «повесить на фонаре».
Что ж, для нас подобные метаморфозы уже не в диковинку.
Гибридная война с РФ стала настоящей лингвистической лабораторией, где слова и смыслы тасуются самым причудливым образом. Это в равной мере касается и украинского, и русского языков.
Война продемонстрировала, как отвлеченные термины внезапно наполняются эмоциональным содержанием и обретают новую жизнь.
Скажем, россиянин, возмущенный «аннексией», обычно начинает доказывать, что все жители Крыма рвались в РФ: хотя сам термин «аннексия» обозначает присоединение части другого государства в одностороннем порядке и вообще не касается симпатий местного населения.
Война продемонстрировала, что приобретенное значение слова может не иметь ничего общего с изначальным.
Например, поначалу термин «сепар» отсылал к сепаратизму и покушению на территориальную целостность Украины.
Но сегодня никто не назовет «сепаром» патриотичного писателя Шкляра, призывающего окончательно отказаться от оккупированного Крыма, Донецка и Луганска. Зато под «сепарами» все чаще подразумеваются пророссийски настроенные лица, ратующие за немедленную реинтеграцию Донбасса на кремлевских условиях. Сохранив негативную коннотацию, это слово обретает прямо противоположный смысл.
Война продемонстрировала, что оскорбление противника — это тонкое искусство.
Ругательства, подчеркивающие чью-то особость и непохожесть, с легкостью превращаются в гордое самоназвание.
Так произошло, например, с «бандеровцем» и «укропом». Зато по-настоящему обидны эпитеты, подчеркивающие нежелательное сходство с врагом: «вышиватник» задевает наших ура-патриотов всерьез. А по другую сторону фронта могут рождаться гордые стихи «я ватник, я потомственный совок», но никто не напишет «я русский нацик, я рашист».
А еще война продемонстрировала, что украинский политический глоссарий, использовавшийся в 2000-х, более не актуален.
Гибридное противостояние обнулило «оранжевых» и «бело-голубых», «левых» и «правых», «демократические силы» и «национал-демократов»… Почти весь наш понятийный аппарат описывал реальность, в которой украинцам приходилось вечно выбирать между двумя векторами — имперским и национальным.
И когда в 2014-м выбор был сделан, — прежняя лексика оказалась несостоятельной.
К примеру, долгие годы под «демократическими силами» в Украине подразумевались противники прокремлевского авторитаризма. Но после оккупации Крыма и Донбасса у пророссийски настроенных украинцев не осталось шансов избрать авторитарного лидера для всей страны. Зато выяснилось, что многие из вчерашних «демократов», боровшихся с Кучмой и Януковичем, готовы подержать национальную версию авторитаризма. И старое политическое клише уже не применимо к нашим реалиям.
Между тем, новая Украина требует новой лексики.
Как корректно называть бывших соратников по Майдану, разделившихся на два условных лагеря? Тех, кто ставит во главу угла личную свободу и права человека; и тех, для кого государство превыше всего?
«Левые» и «правые», как предлагает кто-то?
Но эта терминология невольно отсылает к довоенной эпохе, когда «правыми» именовались сторонники украинской независимости, а «левыми» — реакционеры-имперцы типа Симоненко. В отличие от «правого», термин «левый» в Украине еще долго будет нести выраженную негативную окраску, и стремление применить его к оппонентам выглядит подсознательной манипуляцией.
«Леволибералы» и «праволибералы», как предлагают другие?
Но большинство условных «леволибералов» тяготеют к индивидуализму, не одобряют государственное вмешательство в экономику и весьма далеки от классической левизны. А условные «праволибералы», отстаивающие коллективистские ценности, зачастую не имеют никакого отношения к либерализму.
Просто «либералы» и «консерваторы», следуя старой западной традиции? Но трудно именовать «консерваторами» украинцев, требующих от государства радикальных перемен.
А если учесть, что в действительности оттенков мнений в нашем обществе не два, а куда больше? И любая четкая классификация будет в чем-то грешить против истины? Это еще более усложняет задачу.
Конечно, непреодолимых трудностей не бывает, и общепринятая политическая лексика в Украине будет сформирована заново. Причем произойдет это довольно скоро: по мере того, наши внутренние противоречия будут все отчетливее выходить на первый план.
Вопрос — в том, каким именно окажется новый политический лексикон.
Пресловутый «язык вражды», доминирующий в отечественных СМИ, плох не тем, что обижает россиян или пророссийских боевиков на Донбассе. Он опасен тем, что может быть легко приспособлен для внутриукраинских нужд.
Сегодня нам приходится создавать понятийный аппарат для общения друг с другом почти с нуля, и велик соблазн использовать уже привычные военные клише.
Когда всякий несогласный с твоей точкой зрения — враг.
Когда любая неприятная тебе критика — предательство.
Когда каждый, кто не с нами, становится вражеским пособником.
Когда твои оппоненты не заслуживают иного обозначения, кроме уничижительных и оскорбительных ярлыков.
Да, язык войны подкупает своей прямолинейностью, бескомпромиссностью и экспрессивностью. Но, став языком внутренней украинской политики, он будет означать перманентную войну всех против всех.
И победителей в этой войне точно не будет.