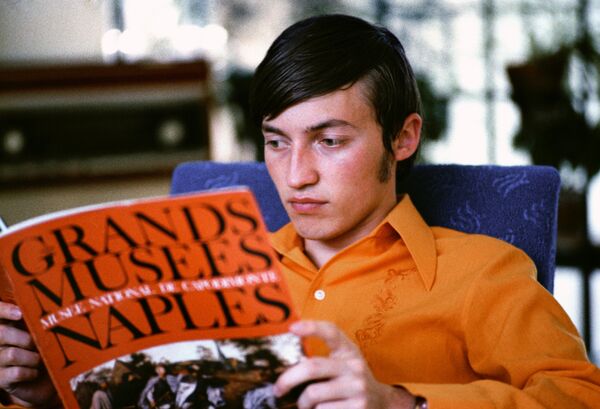Студенты многих университетов по всему миру утверждают, что чтение книг может привести их к депрессии, морально травмировать или даже довести до суицида. Например, роман Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй» (1925), в котором упоминается суицид, может вызвать аналогичные мысли у людей, склонных к самоповреждению. Другие настаивают на том, что роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1925) со вскользь упоминаемым в нем домашним насилием может спровоцировать болезненные воспоминания у жертв. Даже классические древние тексты, как утверждают студенты, могут быть опасны: в колумбийском университете Нью-Йорка активисты потребовали добавить предупреждение к «Метаморфозам» Овидия, ведь «яркие изображения сексуального насилия» могут спровоцировать чувство незащищенности и уязвимости среди некоторых магистрантов.
Возможно, это первый в истории прецедент, когда молодые читатели требуют, чтобы их защитили от пагубного влияния текстов из учебной программы, хотя чтение считалось угрозой психическому здоровью на протяжении нескольких тысяч лет. Соответствуя патерналистскому духу древней Греции, Сократ заявлял, что большинство людей не должны самостоятельно разбирать письменные тексты. Он боялся, что без мудрого совета чтение может спровоцировать у многих — особенно необразованных людей — чувство смятения и моральной дезориентации. В диалоге Платона «Федр», написанном в 360 году до н. э., Сократ опасается, что безоговорочное доверие всему написанному ослабит память людей и, в конце концов, вовсе лишит их способности к запоминанию. Сократ использует греческое слово pharmakon — наркотик — как метафору для писательства, изображая парадокс, согласно которому чтение могло бы быть лекарством, хотя на самом деле является ядом для ума.
Многие греческие и римские мыслители разделяли тревогу Сократа. Подобные опасения озвучивались в III веке до н. э. греческим драматургом Менандром. Он утверждал, что сам акт чтения способен оказывать разрушающее воздействие на женщин. Менандр верил, что женщины страдают от сильной эмоциональности и слабого разума, и настаивал на том, что учить женщину читать и писать — так же плохо, как «подкармливать змею ядом».
В 65 году н. э. римский стоик Сенека утверждал, что «чтение большого количества книг — это пустое развлечение», которое делает читателя «растерянным и слабым». Для Сенеки проблема заключалась не в специфическом содержании текстов, а в непредсказуемом психологическом эффекте неконтролируемого чтения. «Будь осторожен, — предупреждал он, — как бы чтение авторов и книг любого сорта не сделало тебя непоследовательным и рассеянным».
В Средние века тема потенциального вреда чтения стала часто фигурировать в христианской демонологии. Согласно последнему выступлению ученого Вашингтонского университета Хея Босмаджиана2, автора книги Burning Books (2006), тексты, которые исследовали церковную доктрину, были названы отравляющими субстанциями, приносящими вред душе и телу. Церковь опасалась, что неконтролируемое чтение может стать причиной ереси, а кощунственные тексты, такие, как еврейский Талмуд, были отправлены на костёр или «были отождествлены с ядовитыми змеями, чумой и гнилью».
Представление чтения как процесса, в котором люди под пагубным влиянием становятся психологически дезориентированными, продолжало влиять на культуру западной литературы в течение каждой последующей исторической эпохи. В 1533 году Томас Мор, бывший Лорд верховный канцлер Англии и жестокий противник протестантской реформы, назвал публикацию текстов, написанных протестантскими богословами (например, Уильямом Тиндейлом (1494-1536)), «смертельным ядом», который угрожал заразить читателей «страшной чумой». На протяжении XVII и XVIII веков такие термины, как «нравственный яд» или «литературный яд», часто использовались для привлечения внимания к способности письменного текста отравлять организм.
С появлением романа в эпоху нового времени риски, связанные с влиянием чтения на состояние ума читателя, стали частым источником опасений. Критики романа утверждали, что его читатели рискуют потерять связь с реальностью и, как следствие, станут уязвимы к серьёзным психическим заболеваниям.
Английский эссеист Сэмюэль Джонсон утверждал, что литературный реализм, а в частности, его склонность затрагивать вопросы повседневной жизни, имеет коварные последствия. В своей работе 1750 года он предупреждает, что «точное описание живого мира» гораздо опаснее предшествующих реализму «героических фантазий». Но почему? Потому что оно напрямую затрагивает опыт самих читателей, а значит, имеет возможность влиять на них. Что беспокоило Джонсона — так это то, что реалистическая литература, направленная на впечатлительную молодежь, не даёт ей моральных указаний. Он также критиковал литературу романтиков за смешение «хороших и плохих» качеств персонажей без указания, какие из них заслуживают подражания, а какие — нет.
Провокация деструктивного поведения может нести особенный риск для женщин. Философ Жан-Жак Руссо в своем романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) писал, что в тот момент, когда женщина открывает роман и «осмеливается прочесть хотя бы одну страницу», она «потеряна».
Примерно в том же духе в 1780 г. журнал The Lady's Magazine предостерегал, что романы — «мощное изобретение, с помощью которого соблазнитель атакует женское сердце». Речь, конечно, шла о популярных бестселлерах, таких как «Памела», или «Вознаграждённая добродетель» Самуэля Ричардсона (1740) — романе о 15-летней девушке и её противостоянию соблазнам, которое в конце вознаграждается свадьбой. Выносившие такие предупреждения, не сомневались в том, что из-за таких книг женщины рискуют стать одурманенными безудержными сексуальными страстями, поскольку особенно подвержены сильному эмоциональному возбуждению.
Роман как литературный жанр был центром нравственной паники в Англии XVIII века. Романы критиковали за провоцирование как индивидуальных, так и коллективных форм психологических травм и моральной дисфункции. В конце XVIII века понятия «эпидемия чтения» и «мания чтения» использовались одновременно для обозначения и осуждения распространяющейся опасной культуры бесконтрольного чтения.
Представление чтения как «коварной заразы» часто сопровождалось обнаружением иррационального деструктивного поведения. Наиболее тревожным проявлением эпидемии чтения была ее способность провоцировать акты самоповреждения, в том числе самоубийства, среди впечатлительных молодых людей. Роман Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» (1774) — история о неразделённой любви, приведшей к самоубийству — был широко осужден за якобы провокацию массовых самоубийств по обе стороны Атлантики подражателей главного героя.
Несмотря на то, что эти утверждения имели мало общего с реальностью, они нашли поддержку в работе богослова Чарльза Мура, опубликовавшем увесистое двухтомное исследование «Полный обзор феномена самоубийства» (1790). В своем анализе Мур утверждал, что Вертер был ответственен за провоцирование волны самоубийств среди многих его молодых читателей. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, исследование Мура помогло провозгласить наличие связи между чтением романтической литературы и актами самоповреждения. Включение Муром Вертера в рамки «научной» литературы о самоубийствах стало наследием, на которое другие стали ссылаться.
Огромное шеститомное исследование «Полная система медицинской полиции», опубликованное немецким врачом Иоганном Петером Франком с 1779 по 1819 год, предложило комплексный обзор проблемы самоубийства. Среди многочисленных причин самоубийств Франк перечислил «нерелигиозность, разврат, безделие, расточительность и сопутствующая ему нищета, но особенно — чтение отравляющих романов», таких как Вертер, позиционировавших самоубийство как «героическое проявление презрения к делам земным».
В конце XVIII — начале XIX в. наука была призвана подтвердить опасения о вреде чтения для здоровья. В своих «Медицинских исследованиях и наблюдениях за заболеваниями разума» (1812) — первом американском тексте по психиатрии — Бенджамин Раш, отец-основатель США, отметил, что книготорговцы особенно подвержены психическим расстройствам. Переводя древние предупреждения Сенеки на язык психологии, Раш сообщал, что издатели склонны к психическим заболеваниям, поскольку их профессия требует «частого и быстрого переключения внимания с одного субъекта на другой».
Одним из результатов массового появления читающей публики в XIX веке стало распространение опасений вредных медицинских и моральных последствий чтения популярной литературы. В 1851 году немецкий философ Артур Шопенгауэр назвал «плохие книги» «интеллектуальным ядом, уничтожающим разум»: Der Bastard Карла Шпиндлера (1826), Godolphin Эдварда Бульвер-Литтона (1833), Парижские тайны Эжена Сю (1843) — все эти книги, казалось, представляли риск. Шопенгауэра очень беспокоила популярность этих романов. Он связывал её со снижением культурного вкуса, которое, в свою очередь, имело отравляющие последствия для ума.
В течение XIX века консервативные критики популярной литературы часто утверждали, что читатели прямым образом были «инфицированы» сантиментами через чтение романа. Отождествление с заразой было не просто метафорой: поглощение «загрязнителей» ассоциировалось не только с умственным, но и физическим актом. С этой точки зрения, чувства могли быть «подхвачены» как обычная простуда, и во многих случаях это могло привести к травмирующим психическим заболеваниям или даже состояниям, которые заканчиваются актом физического самоуничтожения. Хотя Вертер был написан в 1774 году, его по-прежнему обвиняли в подстрекательстве своих молодых впечатлительных читателей совершать самоубийства вплоть до конца XIX в.
Во второй половине викторианской эпохи медикализация и морализация чтения получила новый толчок в ответ на резкое распространение так называемых сентиментальных романов, начиная с превосходной и опустошающей «Мадам Бовари» (1856). Великий роман Гюстава Флобера рассказывает о жене врача, которая прелюбодействует в погоне за страстью и чувствами, что, в конечном счете, лишает ее жизни. После выхода этого шедевра началось массовое производство дешёвых бульварных «ужастиков», издаваемых с целью причинить боль не менее серьёзную, чем от физического заболевания.
В 1875 г. нью-йоркское Общество подавления порока опубликовало доклад, написанный американским моралистом Энтони Комстоком, в котором он осуждал «хитрость и коварство» продавцов непристойных материалов, которым «удалось заразить разрушительным вирусом невинную и чистую молодёжь, и если не противостоять им, они и вовсе поселят в организме смертоносную болезнь…». «Охраняйте с особой бдительностью свои библиотеки, шкафы, переписки своих детей с друзьями, ведь зараза может дойти до вас и омрачить чистоту и невинность вашего дома» — обращался Комсток к родителям и учителям.
Призыв Комстока к родителям читать письма своих детей и следить за тем, что они читают, был не просто выражением викторианской одержимости противостоянием нравственному загрязнению. Подобно современным требованиям о добавлении специальных предупреждений, требование Комстока основывалось на убежденности в том, что сомнительные тексты представляют серьезную угрозу психическому здоровью читателя.
Моралисты, опасавшиеся злонамеренного влияния текстов, пришли к выводу, что цензура может послужить эффективным эквивалентом карантина. Например, в 1929 г. Джеймс Дуглас, редактор издания Sunday Express, назвал авторов, которые продвигали нравственную «дегенерацию», прокажёнными. Его целью было заставить общество «очиститься от этой проказы».
Несмотря на устрашающие атаки, читающая публика весело проигнорировала предупреждения об опасности для здоровья, выраженные их начальством. На протяжении большей части нового времени люди обходили цензуру и демонстрировали готовность через чтение отправиться в путешествие к неизведанному. Их открытый подход к чтению был воодушевлен гуманистическими и радикальными культурными течениями, которые утверждали преимущества самого разнообразного чтения.
Развитие массового рынка, недорогой серийной литературы и сентиментальных романов показал, что викторианская мораль не смогла сдержать спрос населения на развлекательную литературу, несмотря на предупреждения о вреде для здоровья. Между тем, в XXI веке именно читающая общественность стремится защитить себя от неблагоприятных последствий чтения. И в этом заключается вся разница.
Сегодня не религиозные пуритане, а студенты требуют, чтобы поэма Овидия издавалась с предупреждением о потенциальном вреде здоровью. Мои университетские коллеги сообщают, что впервые в своей карьере сталкиваются с ситуацией, когда некоторые из студентов просят о праве отказаться от чтения текстов, которые они считают оскорбительными или травмирующими. Такая самодиагностика потенциальной уязвимости отличается от традиционного призыва к моральному карантину извне. Давным-давно патерналистские цензоры сделали читателей инфантильными, настаивая на том, что литература представляет собой серьезную угрозу для здоровья. Теперь молодые читатели сами становятся инфантильными, настаивая на том, что они и их сверстники должны быть ограждены от вреда, причиняемого текстами.
Кампания, выступающая за введение предупреждений, представляет собой попытку защитить уязвимых и беспомощных людей от любых потенциально травматических и вредных последствий чтения. Те, кто выступают против или безразличны к этой кампании, осуждаются как согласные с маргинализацией слабых. Как это ни парадоксально, цензура, которая когда-то служила инструментом для утверждения господства власть имущих, теперь трансформируется в оружие, которое можно использовать для защиты слабых от психологического вреда.
Часто сторонники предупреждений привлекают внимание к себе и собственным чувствам. Их аргументы нацелены более на собственное состояние, чем на объективную оценку смысловой нагрузки текста. Сторонники предупреждений совершенно безразличны к литературным достоинствам или содержанию текста, который они хотели бы издать с предупреждением о потенциальном вреде здоровью. Их беспокойство вызывает убежденность в том, что, если читатели не готовы к неожиданным переживаниям, возникающим в результате их чтения, они могут получить психологический ущерб.
Сдаётся, однако, что любые сообщения о психологическом ущербе от чтения текстов основаны на анекдотичных, а не серьёзных опытных свидетельствах. Как писал психолог Гарвардского университета Ричард Макнелли в своем обзоре последнего исследования для журнала Pacific Standart в прошлом году: «Использование предупреждения о триггерах не просто недооценивает стойкость большинства лиц, перенесших психологическую травму, оно может послать неверный сигнал тем, кто страдает от посттравматического синдрома».
Ключевая проблема, поднятая в ходе дискуссии о предупреждениях, имеет отношение не к психологии, а к культуре. Она подчеркивает чувствительность к уязвимости и минимизирует способность к сопротивлению. Именно поэтому студенты, которые активнее остальных борются с «опасной литературой», могут оказаться просто личностями, неспособными самостоятельно справиться с тревожным материалом.
Однако есть один аргумент, в пользу борцов за триггерные предупреждения. Не зря чтения опасались на протяжении всей истории. Это действительно рискованная деятельность: чтение обладает силой, захватывающей воображение, оно может спровоцировать эмоциональное потрясение и привести человека к экзистенциальному кризису. Многие открывают книгу, чтобы испытать волнительное чувство путешествия в неизведанное.
«Может ли кто-то прочитать «В поисках потерянного времени» Пруста, или «Анну Каренину» Толстого, не переживая слабость на самых глубинных уровнях своих сексуальных чувств?» — поинтересовался литературный критик Джордж Стайнер в своем труде «Язык и молчание»: эссе (1958-1966). Чтение застаёт нас врасплох и предлагает опыт, который мы едва сможем проконтролировать; оно играло и продолжает играть важнейшую роль в поиске смысла существования человечества. Именно поэтому оно вызывает страх.